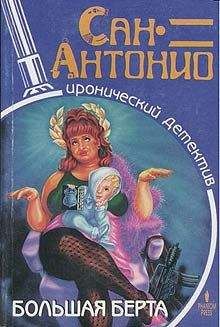Оксана Даровская - Браво Берте
– Страшное было время, Риточка. – Тетка придвинула к ней шкатулку.
Берта открыла пахнущую старой кожей крышку, достала два конверта с письмами, под которыми на оббитом красным бархатом дне лежала ее метрика. «Письма прочитаю потом, когда буду одна», – решила она. Развернув метрику, пробежала глазами по строчкам. Фиолетовые чернила, чей-то каллиграфический, с завитками заглавных букв почерк.
Мать: Ульрих (Снегирева) Мария Федоровна, 1916 г. р.
Отец: Ульрих Генрих Альбертович, 1909 г. р.
Дочь: Ульрих Берта Генриховна, 22 августа 1940 г. р.
– Нет, Симочка, с этого дня я больше не Рита. Я Берта… и никак по-другому. Я не собираюсь отрекаться от родителей. Верну себе фамилию, поменяю паспорт. Спасибо, что сохранила метрику и рассказала правду. – Берта подошла, обняла тетку за плечи, поцеловала в висок. – За все, за все тебе спасибо, ты – самая чудесная.
И тетка впервые на глазах у Берты расплакалась.
Глава 7. Сила искусства
– Знаешь, Берта, что в тебе самое главное?
Берта с Катей сидели в холле второго этажа. Уже наряжена была елка, правда искусственная, хвоей не пахнущая.
– Что?
– Ты не умеешь быть старой.
– Скорее не хочу. А что ты слушаешь из этой плоской пудреницы? – Берта пальцем указала на плеер.
– «Романс» питерской группы «Сплин» – моя любимая песня у них. Хочешь, дам послушать? Только имей в виду, Берта, он не новый, ему лет десять.
– О да! Для меня, конечно, это очень существенно.
– Ты же сама говорила, что любишь все новое.
– Не спорю, я всегда открыта для нового, но главное, я люблю качество, девочка. Качество и талант, невзирая на сроки давности.
Катя аккуратно вложила в уши Берте крохотные белые шарики, поправила ей волосы, прибавила звук. Из наушников в Бертины уши поплыли живые гитарные звуки с характерной, чуть скрипучей оттяжкой, и зазвучал молодой мужской голос:
И лампа не горит,
И врут календари,
И если ты давно хотела что-то мне сказать,
То говори.
Катя тихонько наблюдала за Бертой. Та слушала внимательно. В это время мимо них проплыли похожие как две капли воды два почти бестелесных существа и посмотрели в их сторону так, будто они занимались расчленением трупа.
– Тоже мне, растворенные в Бахе херувимы, – поморщилась вслед им Берта, извлекая из ушей наушники, – две глухие тетери.
– Кто это? – спросила Катя, проводив их взглядом.
– Музыкантши Кацнельсон из соседней комнаты.
– Ну как тебе романс?
– «Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда…», да ну тебя к черту, Катька, разворошила воспоминания.
Катя внутренне возликовала:
– Значит, понравился?
– Да-а. Построен на недосказанности, на полутонах. Бесспорно, хорош.
– А вспомнила о чем?
– О ком. Об одном человеке.
– Расскажешь?
– Когда-нибудь. Не сейчас. Атмосфера нужна особая и настрой.
– Я подожду. Я терпеливая. Может, хоть имя назовешь?
– Имя? Имя… так уж и быть, Георгий. Самое прекрасное из мужских имен.
Катя посмотрела на Берту расширенными от удивления и счастья глазами:
– Это же и мое любимое! У меня же отчество – Георгиевна.
– Ладно, давай лучше вернемся к недосказанности в искусстве. Знаешь, в актерском мастерстве есть прием, когда внешне не навзрыд – внутри все рыдает. Ты направляешь эмоцию вглубь себя, а зачастую получается диалог с Богом. У зрителя в такие минуты сердца останавливаются, мурашки по коже. Вот высший пилотаж. Полагаю, в искусстве, в любых его жанрах, самое главное, когда есть что додумать, довообразить. Только тогда это есть искусство. Причем, Творец не принуждает тебя к этому, ты просто-напросто не можешь этого не делать. Услышанное, прочитанное или увиденное никак не идет у тебя из головы. Ты уже вернулась в бытовую рутину, в повседневность, а осевшая в душе эмоция все открывает и открывает тебе новые смыслы. Понимаешь, о чем я?
– Еще как. Я много раз такое замечала. А с чем, Берта, у тебя так было?
– О-о, сколько угодно. Так было с фильмами столь непохожих, но равнозначно великих Феллини и Бергмана, Тарковского и Данелии, с картинами Гойи и Веласкеса. – Тут Берта хотела приврать, что видела «Венеру с зеркалом» в Лондонской Национальной галерее, но передумала. – Конечно, – продолжила она, – ничто не может сравниться с подлинниками, но даже альбомные иллюстрации их картин возбуждали во мне великую мешанину чувств, а иногда, напротив, небывалое умиротворение. Эх, альбомы, альбомы… В чьих-то вы теперь нечестивых руках? Но я отвлеклась… По поводу подлинников: был такой человек Владимир Яковлев. Однажды мой знакомый художник-сценограф захотел окунуть меня в так называемый андеграунд семидесятых, завлек в гости к некоему полулегальному коллекционеру. У того оказалось несколько работ-набросков Яковлева. Черно-белые лица и цветы, и единственный рисунок в цвете – гуашью. Я стала всматриваться в эти странные лица и цветы, обо всем забыла, потеряла ориентиры: где я, кто я, для чего живу. Я растворилась в его работах… Такая, знаешь, пронзительная щемящая нагота одиночества… Хотя… слова тут меркнут, превращаются в ничто, разбиваются о его рисунки. Позже мне сказали, что из-за болезни он потерял зрение, еще позже узнала, что последние четырнадцать лет провел в сумасшедшем доме. Там и умер. Нищий слепой гений, ходивший по лезвию бритвы. Его теперь любят сравнивать с Ван Гогом. Нет, я не согласна. Яковлев глубже, трагичнее и поразительно светлее. Обладал куда меньшей физической свободой, нежели Ван Гог, а чувствовал много острее. Работы его сегодня стоят бешеных денег. При жизни почти никому не был нужен… Да-а… времена… Ты не устала? – спросила она у Кати.
– Ты что, Берта, разве можно от такого устать?
– Хорошо. Тогда идем дальше. Музыка! Шостакович с Пятой симфонией! Непостижимо! Когда он ее создал, ему был всего тридцать один. А Шнитке! Непредсказуемый, неподражаемый Шнитке со своей «Гоголь-сюитой», иначе «Ревизской сказкой»! Ведь полный отпад! По матери поволжский немец, между прочим, у меня есть повод гордиться. Так что, не такая это редкость – испытывать долгое послевкусие от произведения искусства. Хотя… – Берта задумалась, – многое, конечно, зависит от настройки.
– А современное кино? Наше российское? Можешь что-нибудь назвать?
– Могу. Фильм «Изгнание» режиссера Андрея Звягинцева. Предыдущая его картина – полная нудятина, неудачная, на мой взгляд, проба пера. А «Изгнание» смотрела два раза, что бывает со мною редко. Это было до попадания в местный террариум, здесь-то черта лысого посмотришь, что хочется. Как глубоко он прочувствовал там женскую душу, как сострадает ей. Выпускник, между прочим, ГИТИСа, только бы не ушел от камерности в социальность, не поддался дешевому соблазну, – глубоко вздохнула Берта, и Кате показалось, глаза ее увлажнились.
– Я не видела. Надо будет посмотреть. А тебе когда-нибудь предлагали роли в кино?
– Да, предлагали.
– И что же ты?
– Что я? В первый раз меня оскорбила патологическая порядочность героини, ее откровенная штампованная советскость. Во второй – покоробило слишком подлое нутро женского персонажа. Разве реальные люди бывают такими одномерными и плоскими, как заготовки картонных коробок для водки? Примерно этот вопрос я оба раза, ознакомившись со сценариями, задала режиссерам. Оба одинаково глубоко обиделись. Плевать, я ничуть не жалею. Считала и продолжаю считать, что опрощение и примитивизм оскорбительны не только для актера, для режиссера в первую очередь. Квадратно-гнездовой метод в искусстве? Ни за что! Существует, конечно, гениальная простота, но сейчас не об этом.
– А что ты думаешь о «Черном квадрате» Малевича? – неожиданно спросила Катя.
– Ты-то сама как полагаешь? – внезапно разнервничалась Берта и, не дав Кате ответить, вскрикнула: – Чур меня, чур! Полная подмена понятий, дискредитация ценностей! Можно, конечно, и акт дефекации провозгласить шедевром, наделить глубинными смыслами, но от этого он не станет пахнуть ландышами и смотреться сценой из балета. У людей случается порой массовое помешательство. «Квадрат» – один из примеров великого обмана двадцатого века!
– Значит, люди слепы? Или всеядны?
– Зачастую – да. Никогда не принимай в расчет, Катерина, дурацкое общественное мнение. Уж тем более мнение современных горе-критиков, этих выхолощенных извращенцев с потухшими взорами. Открывай для себя старые книги по искусству, просвещайся самолично и верь только собственному внутреннему чувству. Во всем ищи высшую точку – но именно для себя! И помни, это не обязательно крик и надрыв, часто это всего лишь шепот, тихий шепот, а иногда молчание, когда слышно, как не дышит в зале зритель. Вот такое великое напряжение момента есть самое бесценное состояние души. – Нервность Берты, вызванная темой «Квадрата», переплавилась в воодушевление, она приосанилась и с упоением продолжала: – У каждого вот здесь, – она приложила ладонь к солнечному сплетению, – сидит свой собственный локатор. У кого-то он способен улавливать лишь грубые, низкие частоты, у кого-то – частоты наивысшей тонкости. В этом заключается вечная разность человеческой природы. Вот послушай: