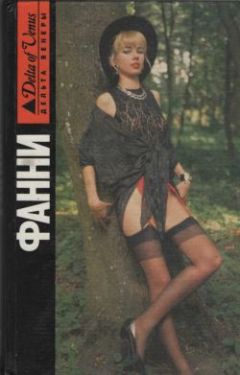Дмитрий Горчев - Жизнь без Карло. Музыка для экзальтированных старцев
Я вот сейчас думаю, подводя уже некоторые итоги, что из того скудного потенциала, который был мне выдан (это не кокетство, я просто очень хорошо с собой знаком), я, благодаря вышеизложенному, надавил из себя в последующей жизни раза в два больше того, что там было.
Деревня. декабрь. опять коньУчусь потихоньку управлять кобылой, то есть мерином.
Конь — это весьма интеллектуальное транспортное средство, оснащённое довольно нехуёвым естественным разумом. Он сам, если хозяин напился пьян и заснул, доставит его домой, при том условии, что хозяин не свалился с телеги. Он сам объедет пешехода и разминется со встречным автомобилем.
Но, как правильно предполагали писатели-фантасты, когда некоторое устройство делается слишком умное, у него заводятся собственные Мнения.
В частности, когда конём управляю я, он в целом слушается, но даже по ушам его можно прочесть это самое Мнение: «А ЧТО ЭТО ЗА ХУЙЛО ТАМ НОКАЕТ? ОН ВООБЩЕ БЛЯ ХТО ТАКОЙ?»
Двадцать грамм. иофаназаСерёга был из Новгорода, который Великий. А сам Серёга был наоборот мелкий, с редкими лошадиными зубами. Отсидел года три на малолетке. В первый же день службы уже зарекомендовал себя положительно: в ответ на какое-то замечание сержанта Файзиева Серёга взял за ножку табуретку и разбил её об голову этого самого сержанта. Отсидел десять суток на гауптвахте и после этого более никто ему никаких замечаний уже не делал: настоящих сумасшедших в армии уважают, тем более что народу, который постирает тебе портянки безо всякой табуретки по голове, там пруд-пруди.
Служил Серёга шофёром.
Шофера были средней кастой: не то быдло, которое таскает бетон или моет посуду, но и не те аристократы, которые могут выдать тебе с вещевого склада новое хэбэ или портянки с начёсом.
На автомобилях, конечно, но в основном под ними. Мне как-то довелось заглянуть одному такому автомобилю (Зил, кажется, его звали) под капот: там всё на бинтиках, проволочках, верёвочках. Как ездит? Почему? А потому что водитель хороший.
В водителях служили почему-то сплошь западные украинцы, справедливо называвшиеся бандеровцами. Самым знаменитым из них был ефрейтор Яцюк, который однажды во время просмотра кинофильма решил тайком покурить и случайно уронил уголёк себе за пазуху. «А що це гарыть? — вопросил на весь полный спящими строителями кинозал (фильм был очень патриотический) ефрейтор Яцюк. — Мамо! Та це ж я гарю!»
А Серёга обладал редким талантом: он умел петь под бас-гитару. Из знакомых мне людей тем же талантом обладает разве что Поль Маккартни. Я вот в музыке ничего не понимаю, и нету у меня ни слуха, ни голоса, но бас-гитара, она же играет совсем другую музыку, не ту что поют — какое-нибудь бум-бум, бу-бум-бум, а поют при этом что-то совсем другое. А вот Серёга умел.
Как-то раз, к дню советской армии, ансамбль «Стремление» решил порадовать слушателей новой концертной программой. Ученик почтальона Андрюха сочинил новые стихи, а сам почтальон Вова — новую музыку. Долго и тщательно репетировали, правда, чифиря выпили ещё больше.
Двадцать третьего всех военных строителей, которые не укрылись в медсанчасти и не стояли на посту, загнали в клуб. Замполит произнёс пламенную речь, после чего командный состав отправился в штаб выпить по маленькой рюмке за военную славу.
Начался концерт. Оставшиеся почти без присмотра военные строители в основном из тех республик, которые сейчас независимые государства, подозрительно тихо прослушали две первые заунывные песни.
Когда же Вова испустил из своей гитары тоскливый вой, намереваясь приступить к третьей, откуда-то с заднего ряда раздался резонный вопрос с грузинским акцентом: «Эээ, бля, зачем хуйню играешь? Весёлый песня давай!»
После чего вечно затурканные жители среднеазиатских республик подняли такой вопль и топот ногами, что сборно-щитовой клуб едва не развалился.
Ансамбль некоторое время пытался продолжать игру, но не слышно было даже барабанщика.
Вова аккуратно положил свою гитару на усилитель и, как всегда с достоинством, удалился. Остальные некоторое время ещё потоптались и тоже ушли. На сцене остался один Серёга со своей бас-гитарой.
Рассказывают такую историю, что мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков однажды присутствовал на торжественном концерте по случаю открытия какого-то культурного объекта. Ну и во время выступления какой-то не в меру корпулентной балерины в сцене вдруг образовался провал (балерина, впрочем, не пострадала).
Среди зрителей поднялся неприличный смех, который ещё больше усилился, когда вдруг уже сам по себе над сценой просел потолок.
И тут Юрий Михайлович, великий и ужасный, твёрдым шагом вышел из своей начальственной ложи на сцену, встал у края разверстого провала и запел без всякого музыкального сопровождения. Вроде бы «не жалею, не зову, не плачу» на стихи поэта Есенина.
И пел он с таким чувством и так яростно, что насмешники замолкли. Некоторые рассказывали потом, что их во время этого исполнения практически парализовало.
Допев свою песнь, Юрий Михайлович тем же твёрдым шагом удалился вновь в свою ложу. И только после этого грянули бурные аплодисменты.
Так вот, на сцене остался один Серёга.
Он некоторое время стоял неподвижно и вдруг очень тихо запел: «Иофаназа… Иофаназа…» (сам Серёга утверждал, что это песня английского ансамбля назарет, но и сам ансамбль вряд ли бы опознал эту песню).
И вот он стоял на сцене, метр шестьдесят ростом, с лошадиными своими зубами и всё громче и громче повторял и повторял по кругу или, может быть, как принято у гитаристов, по квадрату: «Иофаназа… Иофаназа-а… Иофаназаааа…» Было в этом что-то от болеро и от шаманов, и ещё неизвестно от каких древних песнопений. И орал он всё громче, без всякого микрофона, но глотка у него была ого-го.
И дети степей, песков, тундр, дубрав и холмов стали потихоньку стихать и стояли, разинув рты и не понимали, что это такое происходит.
Когда в зале стало совершенно уже тихо, Серёга вдруг оборвал песню, снял гитару с шеи, зашвырнул её в угол, засунул руки в карманы и, не торопясь, ушёл в подсобку. Он победил.
Деревня. январь. вечерОтправился сегодня в путешествие до районного центра за оконным стеклом. На полпути к станции встретил очень дремучего колхозника: в грязной телогрейке, ватных штанах и, несмотря на сырую погоду, в валенках. Из левой его ноздри бурно росли неопрятные седые волосы.
«Здравствуйте, — поприветствовал я Дремучего Колхозника. — А я успею на пригородный?»
Дремучий Колхозник надолго задумался. «Боюсь ввести вас в заблуждение, — сказал он наконец, — я сам этим поездом редко пользуюсь. Но, кажется, он проходит где-то без четверти двенадцать. Так что, если вы поспешите, то вполне его застанете».
«Благодарю вас! — ответил я, слегка охуевши от таких изысканных выражений, каких и в Петербурге-то услышишь не на каждом углу. — Всего вам доброго!»
«И вам всего доброго!» — покивал Дремучий Колхозник и пошёл дальше своим путём.
Двадцать грамм. божий человекОднажды хмурым таким, знаете (да откуда вам, впрочем, знать, что такое январское архангельское утро), брёл я по плацу в тапочках к хозяину продуктового склада Вите Заплаткину за порцией грузинского чаю — мы тогда сильно увлекались чифирём.
На полпути встретил я генеральскую комиссию из Ленинграда.
Я был мало того что в тапочках, так ещё и без ремня, и военно-строительный мой бушлат, заляпанный всеми возможными красками, был надет на голое тело. На рукаве бушлата хлоркой была дерзко вытравлена пацифистская куриная лапа.
«А это ещё кто?!» — грозно спросил ленинградский генерал.
«Да не обращайте внимания, — кротко ответил наш комбат по фамилии Иобидзе. — Это художник, Божий человек. Дурачок наш».
Генерал бурно высморкался в трогательный носовой платочек с незабудками, посверлил меня запрятанными глубоко в смотровых щелях глазами и ничего не сказал.
Деревня. январь. утроВ деревне всё просто. Принёс из сарая дров, бросил в пенку, стало тепло. Простое действие, простой результат, никаких привходящих условий, типа «а вот если, то может быть, а может быть и нет». Никаких тебе коммунальных служб, у которых то трубу прорвало, то сантехники получили зарплату и ушли на неделю в неоплачиваемый отпуск.
И утром встаёшь не по каким-то там экзистенциальным причинам, а потому, что если не встанешь, то замёрзнешь нахуй.
Соседский вот старик так и помер: старуху его увезли в больницу, а он пил-пил с мальцами (так у нас называют всех лиц мужеского пола, которые ещё не старики) из соседней деревни. Потом мальцы ушли, а он лежал на печке, лежал — встать не мог. Да и кончился.
Но это, впрочем, грустно. Лучше уж действительно про космос. Где там мои двадцать?