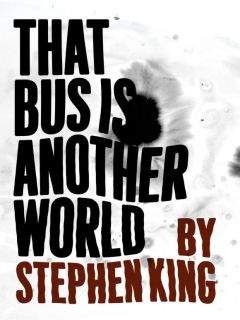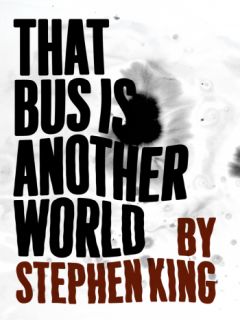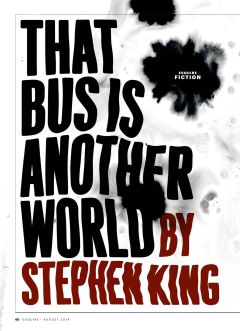Е. Холмогорова - Граница дождя: повести
В шоке была и Сашина мама. Но жалко ей было не распавшегося брака и не Машу, к которой, казалось, она хорошо относилась, а «при живом отце сиротинушку», и она требовала немедленного свидания с внуком.
Вскоре женился Сережа, потом родилась Верочка, и Маша настолько чувствовала ее «своей», что только вторжение со стороны со словами «ваша дочка» могло вывести ее из равновесия.
Еще до бассейна она водила Верочку в школу танцев. Там пожилая отставная балерина завораживала слух мам и бабушек россыпью французских батманов и фуэте, с едва скрываемым презрением глядя на заведомо профнепригодных неповоротливых учениц в любовно сшитых из туго накрахмаленного тюля юбочках. Машу этим было не прошибить — Балюня закончила балетную школу, и вся семья жила в твердой уверенности, что только ранний брак и скорое рождение дочери помешали ее блестящей карьере. Никто не унаследовал Балюниных способностей, Маше достались лишь пронизавшие все детство тычки между лопаток: «Держи спину!», нечастые, но дословно повторяющиеся воспоминания о ежедневной работе у загадочного до поры «станка» и проскальзывавшие в речи балетные словечки.
Маша куда только Верочку не таскала! Разве что фигурное катание как-то прошло мимо. И летом они обязательно уезжали куда-нибудь хоть на неделю. А потом Верочка подросла, и наступил тот самый, противный возраст, когда взрослые с отчаянием думают, что навсегда, навсегда их дети останутся чужими, жесткими и что непременно все дурное, что только может приключиться, подстерегает их за каждым углом. Маша далеко не во всем поддерживала Верочкину маму, но допустить расклада «злая мама — добрая тетя» не могла. А потому свою порцию мучений получила. Лет в четырнадцать у Верочки появился друг-приятель, какой-то неотмытый, лохматый, но, по ее словам, необыкновенно талантливый. В чем именно, Верочка не уточняла. Ко всему прочему, его старший брат баловался наркотиками, поэтому семья, естественно, встревожилась. Верочка в слезах ярости кричала: «Даже Сталин говорил, что сын за отца не отвечает, а вы на Пашку из-за брата наезжаете!» Но потом прошло и это, необходимое, наверное, каждому поколению: полутьма, гитара, сидение на весенних бульварных скамейках…
Теперь вот изучает какой-то менеджмент и прочие мало внятные науки, ходит в ночные клубы и прирабатывает на бирже. А к Маше прибегает, чтобы посидеть под пальмой и поболтать о всякой всячине.
Весну Маша не очень любила. Почему-то вместе с ней рождались мысли о том, что лето наступит и промелькнет и опять будет долгая, холодная ненавистная зима, темные утра и вечера. Она остро чувствовала обязанность радоваться первым листикам, теплому солнцу, и эта несвобода тяготила ее, мешала искренне изумляться легкости плаща после пудовой дубленки и кокетливо примерять подзабытые за год летние открытые наряды.
Таким вот ясным субботним апрельским днем, когда подсохнувший асфальт позволил ногам сбросить опостылевшие сапоги и скользнуть в легкие туфли, Маша шла вверх по Тверской улице — от Манежной площади к Пушкинской. Толпа была уже по-весеннему пестрой и яркой, это видела Маша даже сквозь темные очки, которые вынуждена была нацеплять на нос при малейшем солнце, выжимавшем из глаз слезы.
Она теперь даже была довольна, что прихоть Балюни погнала ее сюда. Уперлась: «Вот вы говорите, что теперь все можно купить. А я, например, сто лет не ела настоящего калача — с ручкой и гребешком, и чтобы весь был мукой обсыпан». Сколько Маша обошла булочных — нет калачей и не было давно. Посоветовали ехать на Тверскую, в знаменитую Филипповскую.
Известно, что упрямство, как и обидчивость, с возрастом растет в геометрической прогрессии. Но свои странности у Балюни были всегда. Она, например, болезненно не любила ездить туда и обратно одним и тем же маршрутом. Способов добраться от дома до работы у нее было, кажется, пять или шесть. Некоторые из них — двумя, тремя транспортами с многочисленными пересадками или длинными пешими марш-бросками. Времени они отбирали вдвое больше простого прямого пути. «Ничего, — говорила Балюня, — билет я покупаю единый, на все виды транспорта, время — мое личное достояние, зато не вижу одно и то же, одно и то же, не сливается жизнь в тупой, нудный поток».
Гастрономические ее пристрастия тоже отличались оригинальностью: квашеную капусту она густо посыпала сахарным песком, а после чая с тортом любила съесть кусочек селедки или на худой конец — бородинского хлеба. Сколько Маша помнила, чай Балюня пила всегда стоя, потому что он, по ее понятиям, успевал остыть, пока она несла чашку до стола. Несколько лет назад они с Сережей догадались подарить ей на день рождения электрический чайник, который она водрузила на стол и впервые стала пить чай сидя, по-людски.
И вот теперь — подай ей калач! Филипповской булочной Маша не узнала. Во-первых, большую часть съела кофейня, во-вторых, помимо хлеба, чем там только не торговали… Калачей не было. Идиотство, конечно, но настроение у нее испортилось: Балюня будет ныть, не могла, мол, мою просьбу выполнить, и, что самое обидное, еще не поверит, что Маша специально в Филипповскую моталась. В сердцах Маша даже не стала ничего покупать, хотя очень привлекательно выглядела ее любимая пахлава и той же Балюне неплохо было бы купить экзотического зефира крем-брюле.
Почти у самого выхода ее окликнули. Маша повернула голову — своей прихрамывающей походкой к ней сквозь толпу пробивался Митя.
— Нашего полку гурманов-кофеманов прибыло! — крикнул он еще за несколько шагов. И подойдя к ней: — Здравствуйте, Маша.
На нем был темно-синий плащ, шарф в мелких турецких огурцах и до блеска начищенные ботинки — выглядел он элегантно, что Маша ему и сообщила, когда они отошли к огромной витрине.
— О вас и не говорю. Молча восхищаюсь.
Митя учился с Володей в одном классе. После школы, как это обычно и бывает, потеряли друг друга на многие десятилетия. Жизнь прошла. И только три года назад, когда их старая московская школа праздновала ни много ни мало столетний юбилей, они встретились. Митя очень смешно рассказывал про это торжество: «Сколько баб незнакомых перецеловал! Подходит: “Ты меня узнаешь?” А я человек воспитанный, понимаю, что самое страшное — женщину не узнать, пусть даже через тридцать лет. Поэтому я: “Ну что ты, конечно, узнаю”. И целоваться. А она: “Ты, Сережа (Саша, Петя и так далее), тоже совсем не изменился”. Приехали… И так — раз двадцать».
На вечере Володя среди прочего не упустил возможности прихвастнуть своим ранним инфарктом, мол, у нас, бизнесменов, по статистике, со здоровьем хуже некуда. Но не повезло ему — Митя оказался врачом. Инфаркт не был оценен в достаточной мере. Володя не сдавался — заговорил о том, что от бесконечных бумаг и колонок цифр плюс компьютер совсем плохо у него с глазами, день ото дня теряет зрение. И попал в точку. Митя, как выяснилось, был врач-окулист. Володя сходил к нему на консультацию в Глазную больницу, и отношения возобновились.
— Я, Маша, как многие одинокие мужчины, гурман и немножко кулинар. Сюда после работы забегаю за круассанами — нигде таких нет. А как хорошо утром рогалик этот маслом намазать и с кофейком на завтрак… Кстати, кофе тут вполне приличный. Позвольте угостить?
Маша согласилась с радостью, надо было поднять настроение. Митю она любила, хотя с первой же встречи между ними возникла какая-то странная, нет, не напряженность, а туго натянутая струнка, по которой, как по телеграфному проводу, бегали слова — туда и обратно, вопрос-ответ. И каждая реплика была значимой, даже самая пустяковая. Маша не понимала, в чем дело, но Володе не говорила — толстокожий, ему такого не объяснишь.
Митя тем временем вошел в роль обходительного кавалера, с превосходством знатока советовал непременно отведать здешний капучино и заказал немыслимой красоты пирожные.
— Прямо-таки архитектурный шедевр, жалко вонзать ложку.
Маша произносила какие-то пустые вежливые слова, получала сходные в ответ и краем сознания не переставала изумляться: почему, ну почему с таким трудом идет гладкий, никчемный разговор. «Может быть, — подумала она, — все дело в той двусмысленной роли, которая ему выпала в наших с Володей отношениях?» Как он однажды выразился — «полк прикрытия». Володина жена с Митей была незнакома, но знала о возобновившейся школьной дружбе. Володя что-то еще наплел про общие бизнес-интересы, поэтому многие их встречи прикрывались Митей, а иногда они действительно встречались втроем.
— Я мальчишкой около года провалялся в больнице с костным туберкулезом. Это имело как минимум три следствия: остался хромым на всю жизнь, твердо решил стать врачом и безнадежно отстал в учебе, школу окончил еле-еле. Хотя нет худа без добра — белый билет и мамина поддержка дали мне возможность за год подготовиться к вступительным экзаменам. Но я не о том. В больнице прочитал «Фиесту». И что там коррида, прочая экзотика — ерунда, а как мечталось на казенной больничной койке, в гипсовом корсете-саркофаге, сидеть в кафе за чашечкой кофе, а потом перейти с друзьями в другое. Да что объяснять…