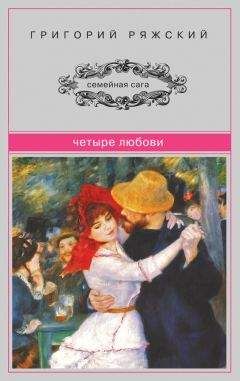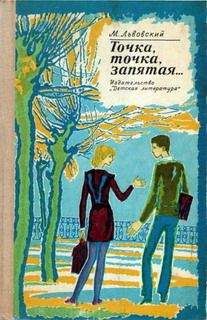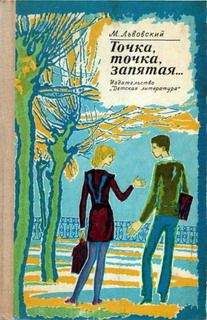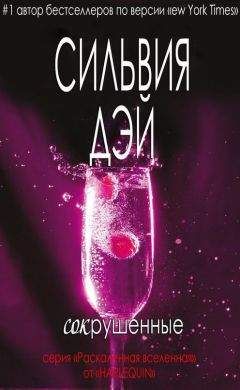Григорий Ряжский - Дивертисмент братьев Лунио
А незадолго до того, как заговорил с дочкой про Ивана, за пару месяцев, снова летних, нашёл одну. Из новеньких, молодая. Как Дюка почти, чуть постарше, до тридцати, приезжая, технолог. Подкатил без особой надежды. Скорей пошутил просто, на тему дружбы и любви. Ну очень понравилась, хотя и избыточно полненькой была. Поначалу к шутке свёл всего лишь, большее предложить язык не повернулся. А та среагировала очень даже конкретно, проигнорировав игривый тон начальника охраны. И приглашение его на кофе-чай приняла без никаких, на полном серьёзе. Гирш даже три цветка купил и в вазу поставил, чего никогда раньше не делал. Никто про цветы не заикался, не принято в городе было такое. И на упаковочной тоже, кроме женского дня.
Главное, она сама с цветком пришла к месту встречи, сказала, это для вашего дома, и протянула. Так они и пришли к нему домой, под руку и с её цветком.
Потом, беседуя, немного выпивали, шипучего вина, цимлянского, затем чай был с тортом, от которого та не отказалась, хотя, как сама объяснила, приходится сразу на трёх диетах сидеть, двумя не наедается.
И уже к тому дело шло, к главному. Хотя оба чувствовали, что первостепенным быть для них должно совсем другое. Так уж всё с самого начала складываться стало, само всё, как по нотам. Он аж дрожал весь, Гирш, давно подобного не чувствовал, что такое попадание может случиться. И что сама будет умной, весёлой, с чертовинкой в глазу и без фанаберии всякой. Своей, в общем.
Пошли по квартире географию изучать домашнюю. И забрели к Дюке, к остаткам мастерской, на время переехавшей в Жижино. Но кое-что осталось, Дюка не всё увозила обычно, часть приспособлений, не первой надобности, дожидалась хозяйки в городе. Ну и выяснилось про неё – ответ за вопросом. Но пока не целиком.
– Так, получается, вы отец, Григорий Наумович? Взрослой дочери? – спросила она.
Прежде чем ответить, он коротко пораздумал, куда же лучше вывести ответ свой, на какую линию, поражения или атаки? И решил, что лучше сразу оглоушить, чтобы не терять взятый темп и использовать достигнутое к этому часу благорасположение гостьи к нему и к его дому.
– Она у меня с небольшим изъяном, – произнёс он, следя за тем, как та отреагирует с самого начала. – Гипофизарный нанизм. Слыхали?
– Нет, Григорий, не слыхала. Это что, болезнь такая или просто неудобство какое-то для жизни?
Он решил, что лучше сказать всё как есть, и закрыть тему совсем. А там как пойдёт оно само.
– Этот термин означает, что моя дочь – карлица. И что она имеет 90 сантиметров в росте. И ей двадцать шесть лет. Но неудобств, поверьте, нет никаких. Она большая умница и великолепный ювелир. Вполне самостоятельная девушка.
Технолог невольно вздрогнула и отшатнулась чуть в сторону. Задумчиво так покачала головой и спросила:
– А где же её мама? Почему дочь с вами, а не с ней?
Гирш пожал плечами:
– Мама от неё отказалась.
– Мама отказалась, а вы нет. Я правильно поняла? – с сомнением в глазах уточнила она.
Гирш вздохнул и развёл руками. Гостья на глазах теряла привлекательность, сделавшись некрасивой и неумной. Так показалось Лунио. И ему уже стало не так важно, куда повернётся разговор про его Дюку.
– А я нет. А вообще Маша мне приёмная дочь, не родная.
Та взялась за голову и повела ею слева направо и обратно.
– Значит, если я правильно вас поняла, вы женились на женщине с карлицей-дочкой, которую она потом бросила, а вы оставили себе? Всё правильно?
Он кивнул:
– Правильно. Ну почти правильно. Только не совсем. Долго объяснять. Есть обстоятельства. Мне бы не хотелось сейчас, извините.
Технолог обречённо покачала головой, и Гирш понял, что это конец их началу. «Надо было сначала в постель, а потом уж мастерскую светить... – подумалось ему в тот момент. – По крайней мере, наказал бы её за то, что она сейчас мне скажет...»
И угадал. Она и сказала, уже по пути в прихожую:
– Вы меня извините, Григорий, но так мог поступить только клинический идиот. И мне жаль, что у нас так с вами получилось. Верней, что не получилось. Жаль, что вы другой, не тот, к которому я шла в гости. И не надо было мне лгать, что вы живёте один. Вместо того чтоб гоголем по фабрике ходить и девушек с толку сбивать, лучше бы сразу про дочку свою сказали инвалидную, чтобы время на пустые походы в гости не терять.
– Я вообще-то говорил, что живу сейчас один, потому что лето... – попытался вставить Григорий Наумович, но его последняя фраза, так и не услышанная, осталась одиноко висеть в коридоре, перед дверью в квартиру Лунио, захлопнутой с другой стороны. Но Гирш всё-таки договорил, не вникая, для чего он это делает и кто услышит его слова. – Она живая... – произнёс он в пустоту, – она такая же, как мы, только лучше. И вам никогда не понять, что маленький человек заслуживает любви больше, чем все мы вместе взятые. Потому что они люди без надежды, они вечные изгои, они знают про себя, что никогда не вырастут и никогда не станут нами. Они могут только смотреть на нас снизу вверх и придумывать себе другую жизнь. И они умеют страдать, как всем вам и не снилось. А вы все не хотите этого понять. Вы недобрые и тупые идиоты. Вы, а не мы. И катитесь куда подальше, не приходите больше к нам с Дюкой...
С того дня Григорий Наумович прекратил свои фривольные опыты общения с женским контингентом упаковочной фабрики, отказавшись от дальнейших поисков подруги жизни у себя на службе. Да и не было уже в том прежней нужды. Дюка выросла – если такое выражение позволительно применить по отношению к ней – и стала полноценной и самостоятельной человеческой единицей. Любая посторонняя мама перестала быть необходимой дому Лунио вообще. А разовые личные удовольствия, коли уж так, пусть отойдут теперь на второй план. И если отбросить всё плохое, то всё остальное, в общем, было хорошим. Нормальным.
И вот здесь я продолжу рассказ нашего деда, который недавно прервал. С того самого места, помните?
Глава 6
«Папу мы похоронили девятого, положили рядом с мамой, и я бросил туда землю, к нему, в яму. А через неделю мне позвонили из нашего райсполкома и сказали, что нужно решать с опекунством, поинтересовались, кто у меня остался из родных. Я ответил, никого нет. В трубке женщина сказала, что они будут принимать решение по мне на заседании комиссии исполкома, которое у них состоится двадцать третьего июня. И чтобы я был готов к тому, что опекун мне будет назначен комиссией. До момента совершеннолетия. Я ей сказал, что ладно, что я понял.
А двадцать второго по радио объявили войну. Ту, что папин заказчик обещал, с Гитлером. Как сейчас помню, не Сталин обращение к нам ко всем всем делал, а диктор Левитан. Или Молотов, не помню. Сталин только потом уже по радио сказал, что мы победим, братья и сёстры. А у самого, слышно было через репродуктор, как зубы о стакан с водой стучат. Правду папа говорил, что он негодяй и убийца. И трус ещё. А Ленин хотя и умер, но идеи его остались – так мой папа тоже говорил. И так я на всю жизнь запомнил.
А летом на наш город двинулась полумиллионная группа армий «Север». В июле они взяли Псков и уже в августе заняли станцию Чудово и перерезали железную дорогу. А в начале сентября захватили Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. С этого дня началась блокада, которая продлилась 871 день. Но папа об этом уже никогда не узнал.
В том же сентябре, когда уже стали бомбить постоянно и обстреливать, и всё горело в пожарах, и было в клубах чёрного дыма, многие хотели выехать, но все пути уже были отрезаны. От этой бомбёжки сгорели Бадаевские склады продовольствия, и это стало началом голода. Все начали готовиться к осаде: я помню, как люди бросились забирать деньги из сберкасс. Вытащили всё, что сумели, буквально за несколько часов. Тут же у всех магазинов выстроились очереди, огромные. Сметали всё подряд, то же самое, что мы с папой запасли: муку в основном, мыло, соль... Хотя и говорили, тоже хорошо запомнилось, что никакой осады не будет, но никто не верил. Не верить теперь было куда надёжнее, чем верить. И тащили в дом по старой привычке. А мне было не нужно. Я просто дошёл до ближайшей булочной, встал в конец огромной очереди и выстоял её до конца, потому что решил, что всё-таки надо набрать побольше хлеба, чтобы был запас сухарей. Мука-мукой, но из неё нужно ещё хлеб этот как-то соорудить. А я не умел. И блинчики тоже папа сам всегда делал, а я не знал, что он там смешивает и как. Просто было очень вкусно, со сметаной и с мёдом, а как они получаются, об этом я никогда не думал.
Хлеб мне купить удалось, но это стало моей последней покупкой. Что сделал для меня папа, я понял не в те дни, а уже гораздо позднее. А то, что люди успели прикупить, последнего своего, всё равно стало для них потом каплей в море. Никто же и думать не мог, что совсем скоро придётся есть лепёшки из горчицы, смешанной с мучной пылью, которая раньше шла на обойный клей.
С первых дней сентября в городе ввели продовольственные карточки. Столовые, рестораны – всё закрылось. Мне тоже дали, через жилконтору получил, на себя одного, папа там уже у них в живых не числился, успели вычеркнуть. А с октября люди стали получать по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, кто работал, а все остальные – по 200. Потом, в ноябре, кажется, уменьшили и это, стали давать по 300 и по 150. А в конце месяца – уже совсем кошмарный паек: 250 и 125 граммов.