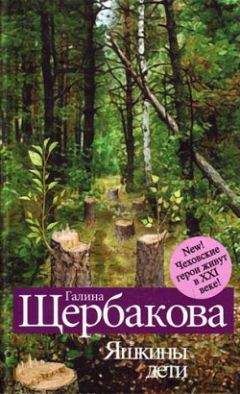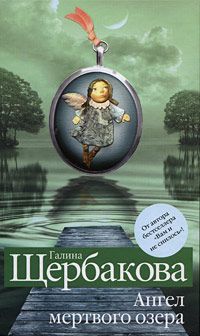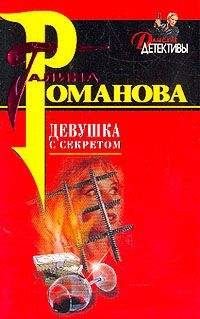Галина Щербакова - Яшкины дети. Чеховские герои в XXI веке (сборник)
Сейчас они стояли, он слушал шипяще-хрустящую тишину пробки. Переклички водителей были односложны и осторожны. Пробка была местом боязливым. Справа по борту стоял начальник одной из партий. Развязный тип. Он громко жрал яблоки в открытом окне, одно, другое, выбрасывая серединку прямо под колеса машины Семена Петровича.
– Не сорил бы, – сказал он ему очень вежливо.
– Не гавкай, – ответил тот и закрыл окно.
Затомилось в груди. По всей иерархии положений они были наравне. Один в Думе, другой в правительстве. Как же тот смел? «Не гавкай!» Надо же. Нашел выражение. Не отшутился там типа «Звиняйте, барин». Так у них говорил один молодой курьер на все замечания старших. «Звиняйте, барин!» – и как-то весело становилось в сердце, спокойно. Все нормально, все в порядке вещей. Когда кто-то сказал курьеру, мол, мы не баре, он засмеялся: «А кто ж вы? „Господа“ можно, а „баре“ нет? А какая на хрен разница между тем и другим?» Он тогда подумал: уволят пацана. Нет. Не тронули. А потом даже повысили. Бегает теперь на самых верхах жизни. Интересно, позволяет ли он себе там такие шуточки?
Чертово «не гавкай» испортило настроение. Не заметил, как пробка тронулась. В конце концов доехали, но все утро сердце ныло. Жена ему говорила: «А ты лучше ожесточись. Не можешь вслух – пошли их всех в уме на весь алфавит! И станет легче».
На совещании ему стало как-то особенно тоскливо и очень захотелось в туалет. Закалка старого сидельца собраний никогда не подводила, поэтому он был спокоен. Выдержит. И правда, и в душе улеглось, и позыв прошел.
Но в перерыве он рванулся первым, президиум еще договаривал какие-то слова. Но ничего, через секунду уже все шли к выходу. В туалет тоже ворвался первым, первым же вышел, облегченный и почти счастливый. Мыл руки, а к соседнему крану подошел начальник всего их ведомства. Они встретились глазами в зеркале, и ему показалось, что в глазах того была суровость и как бы осуждение. За что? Он окинул взглядом себя всего – все вроде в норме. Костюм там, галстук, как это теперь называют – дресс-код. Он стал ловить глаза начальника в зеркале снова и таки поймал все ту же суровость и осуждение. Они выходили вместе, и в дверях, пропуская начальника, он, сам не понимая, что говорит и зачем, спросил:
– Что-то не так?
– Не люблю хамское разглядывание.
– Да я нет, извините… Голова какая-то сегодня кружливая, – он сказал это как бы с юмором, мол, посмейся со мной над глупым словом.
– Нет такого слова в русском языке, – сказал тот и резко пошел от двери.
Зачем он рванул за ним следом, и сам не знает. Но так хотелось все объяснить. Но еще в дверях его что-то остановило. Возник какой-то странный звук и стал таранить уши с двух сторон, пришлось закрыть их ладонями, и он закачался и упал.
Надо помнить – это ж уборная. Люди там не задерживаются, идут быстро. И первые, что были прямо за ним, были вынуждены переступить через него. Нет, никто не наступил там на грудь или живот, перешагнули аккуратно. И он это еще понимал, и даже мысленно благодарил товарищей своих. Но тут звуки в ушах соединились в середине головы и как бы взорвались. И больше он ничего уже не слышал и не видел. Душа освобожденно выпорхнула, даже не взяв с собой слова благодарности людям. И слова бездарно и нелепо повисли на кончике мертвого языка.
Спать хочется
Усталость прижимает ее к земле, особенно когда она в машине. Сказать кому! Вся ее работа в машине. Отвезти детей в одну школу, перевезти во вторую, в третью. А она при шофере. Сидит сзади. Отдыхай, дура! Но это постоянное ощущение близости земли, будто нет в машине сидений, исчезают колеса и она стремительно спускается вниз… И уже раскрытая матушка-земля говорит ей: «Не бойся, женщина! Здесь ты отдохнешь». Эти слова она знает. Они из какого-то очень известного текста. «Мы отдохнем, мы отдохнем…» Но она не может вспомнить, откуда. Именно поиски забытого источника держат ее тут. Она столько раньше знала стихов, сейчас в голове полощутся одни обрывки. Вот, например, этот:
Расстояние, версты, мили.
Нас расставили, рассадили.
Откуда – понятия не имеет!
Или:
Неостановимо хлещет жизнь,
Подставляйте миски и тарелки,
Всякая тарелка будет – мелкой…
Нет, в ней давно не хлещет жизнь, в ней – болото. И тихо, как стоячая вода. Вернее так: стояла ее жизнь.
Раньше много знала чего. А, вот, наконец вспомнила. «Мы отдохнем» – это из Чехова. Она в институте играла Сонечку в «Дяде Ване». И из нее шел этот отчаянный крик: «Мы отдохнем».
Откуда она, тогда еще почти девчонка, знала, что будет это бессилие жизни и притягательность разверстой земли? Там еще было что-то про небо в алмазах. Она смотрит в окно машины. На небе точечки утренних звезд. Стылых, равнодушных звезд. Ни одна не блещет, ни одна не мерцает. Видимо, они тоже устали в своем не ведомом никому круговороте. Рухнуть бы им в одночасье на всю эту землю.
Что она есть, эта земля, и мы на ней? Зачем помнятся стихи? Зачем забываются? Зачем она здесь, в этой проклятой машине?
Затем, что кто-то, а может, некто так распорядился ее жизнью, абсолютно благополучной до ее пятидесяти лет. Она – лучший учитель города, муж – классный хирург, двое замечательных детей. Ах, как это она забыла! Дядю Ваню тогда играл ее муж, тоже студент. Это был знаменитый на весь город студенческий театр. Именно после спектакля они кинулись друг к другу и поняли: это навсегда.
Сын потом окончил Плешку, самое то для нового времени, женился, веселились, как какие-нибудь разгуляй-люди. На паях со сватами купили молодым квартиру. Снова гуляли до положения риз.
И дальше все шло хорошо. Сын преуспевал, муж был нарасхват в случаях всяческих кремлевских полипов с угрожающими наклонностями. Дочь с помощью друзей сдала экзамены в пединститут. Не потому что дура, а потому что она откровенно сказала: ей на фиг не нужно образование. «Ваще». Но мать поймет это потом. Одним словом, ни шатко ни валко училась, как дочь заслуженной учительницы, на бюджетном отделении.
Беда пришла с машиной. Сын купил, потому как у всех приятелей уже были. На третьей или четвертой ездке попал в аварию. На горе, с ним в машине был отец, он и погиб сразу, а сын остался без ног. Но и это было еще не все горе. Изловчившись незнамо как, сын, едва его выписали из больницы, перевалился через подоконник с двенадцатого этажа.
Это было восемь лет назад. Уже загоилось. Сама удивилась, как быстро все заморозилось. Муж еще снился, еще с ним разговаривалось вечерами, а сына уже не было. Нигде. Никогда. Невестка уже пять лет как вышла замуж, очень удачно, родила двоих. Она помнит, как невестка повторяла после аварии: «Слава богу, нет детей. Как жить с отцом-калекой? Такая нравственная тяжесть для ребенка». Сын это слышал. Невестка была без деликатности. Отношений с ней никаких. С какой стати? Даже на кладбище ходят врозь. Да и ходит ли она? Муж с сыном лежат рядом, у них хорошие могилки, приличные памятнички. «Мы отдохнем», – говорит она им, стоя у оградки.
Дочь все никак не могла выйти замуж.
Сама она ушла из школы в шестьдесят. Так вдруг случилось. Встала утром по будильнику. Душ, чай крепкий. Но, когда стояла у подоконника, возникло такое необоримое желание никуда не идти. Остановило одно: неработающая дочь. В школу та идти категорически не хотела, а что можно уметь после педагогического? В ту минуту, когда матери так остро хотелось остаться дома, дочь крепко спала, она спала до двенадцати, до двух. Возвращавшаяся с работы мать часто находила ее еще в исподнем. Так бывало часов до пяти, пока кто-то из подружек не звал ее на чашку кофе или погонять в бильярд.
– Дай мне пару стольников, у меня только полтинник. – Это их обычный разговор.
Великовозрастная девица сидела на шее матери, презирая ее, училку, всей душой: и мало зарабатывает, и одевается ни во что, и вообще: «Как можно так жить?»
Бывало, сцеплялись до скандала. И всегда побеждала младшая. Она обвязывала голову полотенцем, демонстративно пила тазепам и уходила в свою комнату.
Квартира у них была, по старым временам, просто супер. Три отдельных комнаты, большая кухня, две лоджии. Прекрасная учительница и классный хирург были в их районе элитой. Никто с этим не спорил. Тогда еще ценились и ум, и профессия.
Года через три-четыре после смерти мужа и сына за ней начал ухаживать старый поклонник, тоже, кстати, из времен студенческого театра. В том самом «Дяде Ване» он играл бедного помещика Телегина. Он удивительно искренне и смешно произносил слова: «Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства…» При этом он вытягивал тонкую шею из воротничка и приподнимался на цыпочки.
Он был холост и любил ее, как он говорил, с младых ногтей. И временами… Временами… Ей приходила в голову грешная мысль. Но дочь впадала в остервенение при одном слове о материнском поклоннике. В общем, она, дочь, и разрушила этот трогательный старый роман. И долго потом поминала матери «этот стыд накануне шестидесяти лет». Это оттого, что она одинока, жалела мать свою дочь. Есть порядок вещей: старой матери не положено обзаводиться мужчиной раньше молодой дочери.