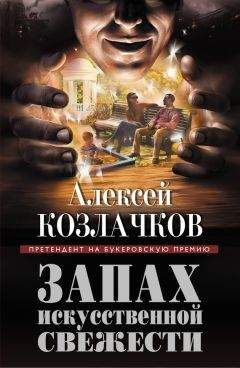Збигнев Ненацки - Раз в год в Скиролавках
— Через эту землю, через этот лес прокатились две больших войны. Эта последняя такая великая, что больше уже и быть не может. Еще в болотах башни танков торчат, и старые каски лежат в оврагах. А вы о каком-то сражении сто пятьдесят лет назад рассказываете, будто это было вчера.
— Что правда, то правда, — согласился Севрук. — Я сам видел великую битву собственными глазами. Но одно дело — видеть самому, а другое — слушать рассказы о битве.
— Теперь не умеют рассказывать о войне, — заявил Крыщак. — И даже фильмы о войне неинтересные. Все время показывают, как едут танки, бегут солдаты и пушки стреляют. Может быть, вы послушаете: «Багратиону пришла в голову хорошая мысль…»
Они пили, ели курятину, которую Порова заостренной палочкой вынимала из горячего бульона и всех поровну оделяла. Наелись мяса дети Поровой, не исключая того малыша, который лежал в бункере на соломе и по своему обычаю бился головой в эту солому. Накормила своего малыша и хромая Марына, а потом стащила с себя платье и в комбинации, как Норова, уселась на бункере.
— За наши прекрасные дни, пане Ярош, пусть же эта чарка наполнится, — торжественно говорил Любиньски лесорубу, наполняя водкой маленькие стаканчики.
Они пили, ели, говорили. Каждый о том, что знал, или о том, что ему казалось, но никого, кроме рассказчика, это не волновало. Никто никого не слушал, но каждый что-то рассказывал и чувствовал радость от своего рассказа. Плотник Севрук говорил, как он строил кому-то сарай с четырехскатной крышей, Эрвин Крыщак — о князе Ройссе, который, прежде чем взбаламутить девку с фольварка, велел Крыщаку ее попробовать, не подцепит ли он от нее какой-нибудь болезни. Ярош — о странном событии, которое он пережил два года назад, когда возвращался ночью через лес из Барт на мотороллере в Скиролавки. Посреди леса остановил его на шоссе солдат, уселся сзади на его мотороллер. По дороге Ярош сообразил, что на этом солдате — мундир чужой армии. Возле лесничества Блесы солдат велел ему остановиться, соскочил и исчез в лесу. Зентек рассказывал о цыганах и клялся, что, если где-то в лесу цыгане раскинут табор, то на этом месте никогда уже не вырастет новый лес. Любиньски рассказывал об одном литературном критике, который, прежде чем прочитает и оценит книжку, должен ее обнюхать. Молодой Галембка все время гладил по голой коленке то хромую Марыну, то Порову, а они при каждом прикосновении заходились громким смехом.
Плотник Севрук то и дело поднимал тосты за писателя Любиньского и снова ему объяснял:
— Вы много потеряли, пане писатель, что не видели моего утопления в озере. Это правда, что приятно посидеть на бункере. Но мое утопление было интересней. Не в обиду будь сказано всей компании, но я еще раз скажу, что убегать с детьми не так интересно, как топиться в озере.
— А я тебе скажу, что самого интересного ты не видал, Севрук, — заявил лесоруб Ярош. — Лучше всего было, когда мы гнали по молоднякам Леона Кручека, а потом вместе с доктором мою жену по голой заднице пороли ремнем.
— Каждую неделю должно быть что-то интересное в нашей деревне, — гремел басом плотник Севрук. — Тогда бы никто не скучал.
— А вы знаете, что сюда, в этот бункер, Антек Пасемко затащил труп девушки из Барт? Полтора года она тут лежала, и никто об этом не знал…
Эти слова произнес молодой Галембка. И тотчас все умолкли, скорчились, словно бы холодное дуновение ветра вдруг их овеяло. Наконец Эрвин Крыщак укоризненно сказал:
— Не говорил бы ты что попало. Не видишь, что ли, что даже пан писатель пришел нас проведать? Умный, приличный, культурный разговор надо вести, а не вспоминать о глупостях.
— Так у меня только вырвалось, — объяснялся Галембка.
— Ну так пусть у тебя что попало не вырывается, — бурчал Крыщак. — Сожми задницу, а то обсерешься.
И снова они ели, пили, разговаривали до предвечернего часа, когда прилетел легкий ветерок и дым из бункера пошел не прямо вверх, а начал стелиться по земле. Сизый дым ел глаза, окутывал своим неприятным запахом. Раскашлялся Любиньски и отирал слезы с глаз. Видя это, сидящая по-турецки Норова схватила краешек комбинации и, размахивая ею, отгоняла дым от писателя, одновременно открывая перед ним свои голые бедра, черные глубокие борозды на животе. Пробовала обмахивать писателя и хромая Марына, но, поскольку она носила трусы, ничьего интереса не вызвала. Впрочем, несмотря на обмахивание, все тонули в клубах синего дыма, потому что маленький Дарек топил не только корой, но и еловыми ветвями и делал это увлеченно и без устали. Время от времени, кроме подбрюшья Поровой, из клубов дыма выныривало перед Любиньским улыбающееся лицо Эрвина Крыщака и его единственный желтый зуб. Иногда из синевы высовывалась, как большой котел, голова плотника Севрука или чья-то рука со стаканчиком водки. Потом снова дым заслонял мир и выжимал слезы из глаз, Любиньски уже никого и ничего не видел, и ему казалось, что он проваливается в горловину пекла. Но ветер менял направление, дым уходил в глубь оврага, все снова становилось отчетливым и хорошо видимым, даже глубокий пупок на животе Поровой, которая все еще обмахивала писателя своей комбинацией.
Посматривал писатель на ее пупок, на волосатое лоно, потом переместил взгляд на смуглое лицо, на черные густые волосы, которые она распустила по голым плечам, слушал ее веселый смех и заглядывал в широко открытый рот с недостающими спереди несколькими зубами. Смех Поровой был громкий и глубокий, он сотрясал ее живот и обвисшие груди. Но Любиньски заметил и то, что, даже сотрясаясь в этом беззаботном смехе, она ни на миг не теряла бдительности, ее взгляд был холодным и постоянно стрелял во все стороны, она напоминала дикое животное, пойманное человеком и немного прирученное, позволяющее себя гладить, но постоянно готовое к побегу. Любиньски подумал, что Порова не знает чувства любви, как слепой не знает света, внутренность ее души — как ее дом — холодная и пустая, обнищавшая. Она обнимается с мужчинами, а потом рожает, стремясь разогреть в себе что-то, что остается холодным и разогреть себя не дает. Подумал Любиньски и о том, что Порова — как полевая груша, рожденная из случайно брошенного семечка. Не привитая веточкой благородства, она содержит соки горькие и кислые, которые родят такие же горькие и кислые плоды.
После полудня, волоча ногами, приплелась из деревни старая Ястшембска с бутылкой денатурата. Писатель не хотел, чтобы люди травились таким ужасным напитком, вынул из кошелька вторую крупную банкноту, и на этот раз Ярош на велосипеде поехал в магазин. А потому как магазин был уже закрыт, Ярош постучался в дом Смугоневой, которая с каким-то любовником из Барт как раз ужинала. Смугонева продала ему две бутылки водки, а потом вместе с любовником села на мотоцикл и очутилась в лесу возле бункера. Но, упаси Бог, не с пустыми руками, а с полной сумкой бутылок и с тремя кольцами колбасы. С той минуты в синеве дыма перед Любиньским начало появляться похожее на червивую редьку лицо старой Ястшембской, и, кроме этого, он то и дело видел что-нибудь новенькое. Смугонева не захотела быть хуже, чем Порова, она сняла юбку и стала обмахивать своего ухажера от дыма, повесив розовые трусы на куст шиповника. Но ухажер, кровельщик из Барт, человек уже немолодой, быстро напился и заснул под этим кустом. Тогда Смугонева начала обмахивать молодого Галембку, а когда и он свалился, так же, как Цегловски и Зентек, громко расплакалась. Тогда возле бункера появился лесник Видлонг и неприличными словами стал обзывать Яроша, Зентека и Цегловского за то, что они уже два дня не делают никакой лесной работы. Он обзывал всех собравшихся возле бункера пьяницами, пока писатель Любиньски не оскорбился на эти слова и не сунул в руку Видлонга стаканчик с водкой, чтобы и он опрокинул полную чарку за их прекрасные дни. Смугонева обещала его обмахивать, если он перестанет строжиться и чарку осушит до дна. Видлонга не надо было долго упрашивать, и часом позже он тоже громко выкрикивал о прекрасных днях. Потом он признался присутствующим, что ему уже много лет как обрыдл большой зад его жены и он хотел бы поискать какую-нибудь маленькую жопку, с чем в Скиролавках нелегко, потому что одна маленькая жопка принадлежит пани Халинке, которая сбежала к художнику Порвашу, а другая принадлежит пани Басеньке, жене писателя. Тогда на полянку возле бункера прибыл Шчепан Жарын, к сожалению, с пустыми руками. Взамен, протягивая руку за стаканчиком водки, он предложил, что покажет всем голову своего змея, и даже ширинку расстегнул. Никто, однако, никакого энтузиазма не проявил, потому что почти все, не исключая хромой Марыны, этого змея в самых разных видах видели не раз. Раз уж наткнулись на эту тему, то любопытство беседующих обратилось к леснику Видлонгу, мужчине высокого роста, плечистому, с пышными усами, но как рассказывала о нем его жена с большим задом — с шишечкой маленькой, как наперсток. Это не помешало ему сделать четверых детей ей и, как догадывались, и жене лесоруба Стасяка. Лесник Видлонг, несмотря на то, что осушил чарку уже несколько раз и его чудесно обмахивала комбинацией Смугонева, проявлял стыдливость и не хотел расстегивать ширинку. И даже сделал нечто удивительное. Ни с того ни с сего, может быть, из-за того, что происходило вокруг, а может, и по другим причинам (никто не может проследить за человеческими мыслями, как за птицами в небе) Видлонг бросил Смугоневу и, подсев к Любиньскому, спросил его: