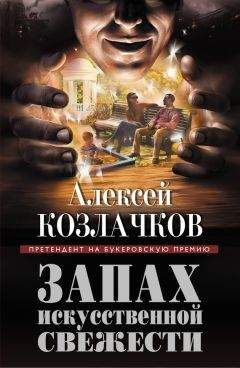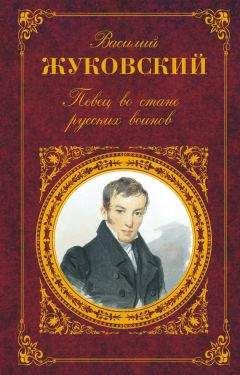Алексей Козлачков - Запах искусственной свежести

Обзор книги Алексей Козлачков - Запах искусственной свежести
Алексей Козлачков
Запах искусственной свежести
1.
Есть время, из которого я помню все запахи, хоть прошло уже много лет; для звуков же память моя не так хороша. Я помню, как пахнет первый глоток из алюминиевой фляжки, банка открываемой сгущенки, песок пустыни, ботинки из свиной кожи, верблюжья колючка, внутренности вертолета, сигареты без фильтра “Охотничьи”, письмо с родины – от матушки по-своему, от невесты по-другому, запах и вкус сильного физического напряжения, запах зеленого чая… Во всю дальнейшую жизнь я пытался найти этот чай снова, для чего я выпил цистерну зеленых чаев разных марок, но того запаха так и не нашел.
Я уже не помню, как пахнет мой впоследствии законченный институт, не помню запахов ни одной из моих женщин, уже не помню запаха сына, запаха бесчисленных “присутственных мест”, в которых довелось избывать жизнь, но я точно помню, как пахла ложка капитана Денисова, когда однажды он ее достал в горах, чтобы съесть миску плова, подаренного нам афганцами; и мы черпали ею из миски по очереди, потому что у меня не оказалось ложки в полевой сумке, – одни карты, стихи и любовные письма. А у него была; помню и запах этого плова.
Может быть, жара усиливает все запахи, и они прочнее врезываются в память, а может, они задержались в ней так надолго, потому что все они вместе – запахи моей юности, и во всю последующую жизнь они уже не так свежи? Один из тех запахов, доставшийся мне случайно, я помню ясно и теперь, спустя годы.
Однажды я купил себе в лавке Военторга одеколон с названием “Свежесть” впрок, несколько пузырьков, поскольку в батальоне не было магазина, и до него нужно было добираться на вертолетах на одну из крупных баз наших войск, а это за служебным недосугом случалось не часто. Вполне возможно, что покупал одеколон даже и не я сам, а кто-то из товарищей по моему поручению и на собственный выбор: купил тот, который оказался в продаже… тем более удивительно.
Это был одеколон с мыльной эмульсией специально для обихаживания щек после бритья, поскольку в Афганистане с определенного времени уже не продавали обычного одеколона, который тут же раскупался солдатами и офицерами и употреблялся внутрь. Так командование боролось с пьянством в местности, где шла война. Ничего спиртного в Афганистане легально купить было нельзя, а нелегальное стоило слишком дорого, поэтому простой без мыльных добавок одеколон чаще всего сразу выпивался. В высоких штабах рассудили, что с мыльной эмульсией одеколон станет пить невозможно, по крайней мере, очень неприятно – пены полный рот. Но чего не выпьешь для поднятия боевого духа вопреки штабным расчетам; самые храбрые пили и его. Мой одеколон оказался какого-то прибалтийского производства – литовского или эстонского (мы тогда Литвы от Эстонии не отличали), в пластмассовом пузырьке синего цвета, на одной стороне было написано что-то по-прибалтийски, а на другой перевод – “Свежесть”. Стоил, помню, восемьдесят копеек.
Название было без фантазии, это тебе не “Русский лес”, “Красная Москва” или “Кармен”, но на редкость удачное, поскольку тонко была выявлена суть продукта; первое, что приходило в голову, открывши пробку – да, это именно свежесть. Но только свежесть не естественная – утра, воды, воздуха, а это был запах искусственной, синтетической свежести, некоей изначальной стерильности этой жидкости. Учуешь этот запах, и не остается никаких сомнений, что все бактерии вокруг издохнут тотчас же. Нечто подобное встречалось мне впоследствии в запахе немецких и французских туалетов: входишь в густо-синий неоновый свет, похожий на флакон моей “Свежести”, и сразу в тебя проникает чувство глубокой продезинфицированности окружающего пространства. Нужду стараешься справить побыстрее и выскочить наружу, ибо чувствуешь, что и полезные микроорганизмы, из которых отчасти состоишь и сам, тоже стремительно отмирают.
Было у этого одеколона и еще одно замечательное качество: он будоражил какие-то участки мозга, связанные с воображением и мечтательностью. Это повторялось каждое утро после бритья: размазав жидкость по щекам, я тотчас же мягко отплывал в дальние северные пределы, в прохладный Петербург, в то время еще Ленинград, где жила моя тогдашняя невеста; мне грезился запах кофеен, мокрого асфальта, цокот ее утренних каблучков по этому асфальту, в то время как все остальные шли беззвучно, запах ветра с Невы, ветра с моря, трепет праздничных флагов и размытый свет светофора во время дождя на ленинградском перекрестке. Все это не было связано напрямую именно с запахом искусственной свежести, исходившим от этого парфюмерного продукта, но, видимо, в нем было что-то галлюциногенное. Есть же теперь какая-то новейшая технология получения отблесков счастья при помощи вдыхания клея “Момент” или ацетона. Наверное, и здесь было что-то подобное. Запах этот не отключал от действительности вовсе, он размывал ее, затуманивал и накладывал в моем воспаленном мозгу на декорации из влажного Питера, – непременно влажного, занимавшего в грезах моего перегретого организма образ рая. Оба мира – реальный батальонный и иллюзорный питерский, причудливо переплетались, иногда до полного неразличения, что могло бы стать и опасным, но слишком далеко никогда все же не заходило. События батальонной жизни легко могли лишить меня сладких видений, выключить этот второй план, для чего достаточно было резкого окрика, команды, выстрела, и ты возвращался в угрюмую обыденность выжженной добела пустыни. Я заметил, что размазанная с утра еще на голодный желудок по щекам “Свежесть” включала мне родину примерно на час. Потом интенсивность галлюцинаций гасла, оставляя лишь постепенно замирающие и улетучивающиеся всплески этого визуального счастья. Я так привык к этим ежеутренним путешествиям на родину, что они постепенно составили важную часть моего существования и опору душевного здоровья в борьбе с унылостью и тяготами военного быта. Была, однако, и некоторая неприятность, связанная с этой “Свежестью”, впрочем, сравнительно небольшая. Набрызганная на щеки по утренней относительной прохладце жидкость уже к девяти часам, к батальонному разводу отвратительно растекалась по коже липким потом, к которому примешивалась еще и всегдашняя афганская мелкая пыль, – вскоре щеки покрывались неприятными грязными и липкими разводами, и упоение исчезало.
Но однажды произошло событие, которое и сделало запах этого одеколона особенно памятным.
2.
Батальон наш стоял на самом юге Афганистана в пустыне. Кругом пески, шакалы, душманы и минные поля. Вскочишь поутру по звуку батальонной трубы в своей палатке, и, главное, спросонья не забыть, что глаз открывать никак нельзя, потому что на них за ночь надуло холмики песка; а ежели бы их открыть, то потом не проморгаешься до вечера, раздерешь подглазья до крови. А надо было поступить так: как заслышал зарю, сделать резкий переворот на живот и, нависая над краем железной койки, вытрясти песок, а потом только открывать глаза. Палатка, которую я делил с капитаном Денисовым – командиром минометной батареи, была натянута над ямой, выдолбленной в каменистом грунте при помощи динамита, чтобы в ней можно было распрямиться в рост. Крылья палатки неплотно пригнетались к земле, поэтому днями их можно было поднимать, устраивая сквозняк от жары; ночами же, когда дули упорные афганские ветры, не только наши лица, но и всякие вещи покрывались слоями мельчайшей песчаной пыли. Она была на зубах, в ушах, носах, посуде, оружии, а мои книжки, лежавшие здесь же на полках из снарядных ящиков, превращались в обросшие мягким мхом кирпичи. Сначала их нужно было отрясать, стуча ребром книги по столу, а потом еще стирать остатки пыльного налета ладонью. Тогда только краски на обложке вновь становились сочными. Это был почти ежеутренний ритуал просветления контуров мира, освобождения его от ненужных наслоений. А песок на наших зубах продолжал скрипеть, напоминая нам, скорей всего, о вечности, о которой мы тогда еще не подозревали.