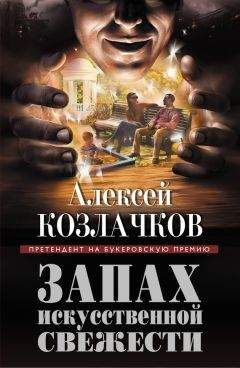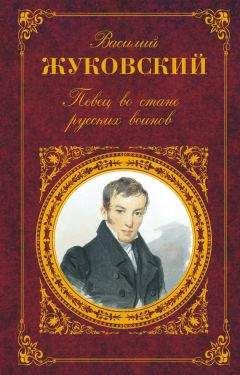Алексей Козлачков - Запах искусственной свежести
После сказанного Денисовым я едва сдерживал ликование, ведь радоваться назначению в опасное место считалось дурным тоном, напрашиваться на риск тоже противоречило офицерским суеверьям. Но мне было всего двадцать два, и мне казалось, что погибнуть наутро на виду у всего батальона было бы достойным завершением моей короткой, но героической биографии. Чувство это было постоянным, временами доходившим до нетерпеливой дрожи, а ночами мне навязчиво снилась длинная пулеметная очередь, разрывающая на бегу мою широченную грудь, – “настоящий десантник умирает лицом к врагу”. Одна мысль, что завтра я пойду впереди батальона вместе с разведкой, и при этом у меня будет своя особенная задача, одна из самых важных, делала меня радостно возбужденным. Засекать огневые точки, определять координаты целей, наносить их на карту, а, случится, и корректировать огонь всей артиллерийской группировки (такова была бы моя задача) – меня распирало от гордости. Хотя дело было мне знакомое, и я уже ходилв цепях пехоты артиллерийским корректировщиком и в зеленых дебрях под Кандагаром, и в армейской операции в Герате, но тогда я был лишь одним из многих офицеров, а завтра буду единственным. Вполне возможно, именно от меня будет зависеть весь успех операции, на которую нагнали чертову прорву войск. Так мне мечталось, и я уже представлял, как сам командующий будет произносить именно мой позывной, затейся завтра какая-нибудь серьезная заваруха; а заварухи завтра не миновать.
От счастливого возбуждения я потерял нормальную координацию движений и постоянно теребил застежку своей полевой сумки, так что Денисов все заметил и сказал мне почти грубо, переходя опять на “вы”: “Скулить от радости, лейтенант, будете завтра вечером, если выберетесь из ущелья, а сейчас готовьтесь – наносите обстановку, получите сухпай, с радиостанцией пойдет Мухин”.
– Почему Мухин, а не Четвериков? – осмелился я на лишний вопрос, который просто вырвался у меня… хотя было ясно, что все уже решено. И Денисов очень не любил “дополнительные вопросы” в таких ситуациях.
– Что вы, Федор Николаевич, ведете себя, как гуманоид… потому что Мухин. Четвериков теперь никому не помощник, вы что – не знаете? Отец солдата, твою мать…
“Гуманоид” было излюбленным денисовским ругательством вместе с вариациями на тему “куска идиота”. Наверное, это слово представлялось ему обидной формой слова “гуманист”, которое уже само по себе было довольно отвратительно для десантного офицера. Неизвестно как завелось в устах капитана это словечко из фантастических романов; легче было вообразить Денисова дирижером симфонического оркестра, глядя, например, с каким азартом он разучивает с солдатами устрашающие строевые песни, чем читателем романов, тем более фантастических.Все-таки он был очень талантливым человеком и схватывал все на лету: где-то, значит, услышал. Денисов говорил со мною, не поднимая глаз от карты, расстеленной на складном столике в кузове грузовика. Светила тусклая соляровая лампа, и тень денисовских усов скользила по ущелью на карте, куда завтра должен втянуться наш батальон вместе со мною в передовом отряде. Своими необъятными плечами Денисов разделял пространство грузовика на две сферы – света и тени. Но мне и среди белого дня часто казалось, что за плечи Денисова страшно заглядывать, за ними – непроглядная тьма; и что в этом и состоит основная функция его плечей – отгораживать всех нас от тьмы. “Хорошо быть Денисовым, – думал я часто, засыпая, – с плечами, как разводные мосты, через которые проходят разные полезные корабли в нужном направлении. Мне бы такие плечи, такие усы и такой авторитет у солдат и офицеров. Эх, служить еще и служить…”
Устыдившись своего вопроса, я молчал. Четверикова по кличке Дважды Два, опытного радиста, дембеля, с которым я чаще всего и ходил в последнее время на операции, теперь действительно посылать никуда нельзя, хотя он сам и напрашивается.Он только что вернулся с похоронсразу и отца, и матери, погибших в автокатастрофе и, судя по всему, по вине пьяного отца. Дважды Два об этом специально не рассказывал, но из обмолвок это становилось ясным. Дома осталась младшая сестра-школьница, жившая с бабкой, – он бы легко мог оформить опекунство и остаться дома, но не захотел, рвался опять в Афган, на нашу голову… Если б не рвался, дали бы нам другого солдата, а то вот теперь и в бой не пошлешь, как последнего казака в семье, и замена ему будет только по дембелю.
Одно дело идти на важную вылазку с воином опытным, понимающим тебя с полувздоха, с которым уже не однажды хожено, и совершенно другое – с солдатом, не прослужившим еще и года, которого нужно учить всему на ходу, да еще в таком деле, что пулю встретишь прежде, чем обучишь. Муха, конечно, кое-что умел – закончил специальную учебку в Союзе и здесь на занятиях чему-то научился, но в бою будет завтра впервые. Дважды Два понимал каждое движение моих ушей под каской, а этот… что будет делать завтра этот солдат? Тревога о нем отравила мне быстрый ужин, состоявший из гречневой каши и банки рыбных консервов; я послал за Мухиным и взялся при свете коптилки перерисовывать изменение обстановки с денисовской карты на свою. Скоро появился Мухин и доложил:
– Тащ гвардии лейтенант, рядовой Мухин по вашему приказанию прибыл.
У солдат почти всегда есть клички, чаще по фамилии, иногда по какому-то заметному отличительному признаку, если он есть. Мухина звали кличкой по фамилии – Муха, ничем заметным он не выделялся, но прозвище это необыкновенно подходило ему “по совокупности признаков”, – называли его Мухой все, даже офицеры. У него была совершенно заурядная внешность солдата-первогодка, которые, как китайцы, все на одно лицо; индивидуальные черты они начинают приобретать, лишь прослужив побольше года. Передо мной стоял среднего роста, среднего сложения, щуплый солдат в очень измятом и измызганном обмундировании: бушлат порван, зимняя шапка облезла – явно не новая, каковою должна быть, а давно уже обмененная у какого-нибудь дембеля, штаны топорщились, руки грязны, как у всякого молодого солдата, которому приходится выполнять много черной работы за себя и за дембелей. У Мухи невидящие мутные глаза без просверка неба, свет в них тоже появится лишь после года службы. Отличался он только очень светлыми волосами, как на портретах крестьянских детей в учебнике “Родной речи” для начальной школы – выгоревшая белесая солома. Лицо было в крупных веснушках, которые проступали даже сквозь густой, до черноты сапога, афганский загар; Муха был похож на белокурого негра.
“Мухин, пойдете завтра со мной в ущелье с радиостанцией, идем с седьмой ротой, – я говорил хмуро и строго, невольно копируя очень привязчивую манеру отдачи распоряжений Денисовым. Кроме него я и командиров-то настоящих не знал, выйдя всего год из училища. – Час на подготовку, проверить зарядку аккумуляторов, боекомплект, получить у старшины сухпай на двое суток”.