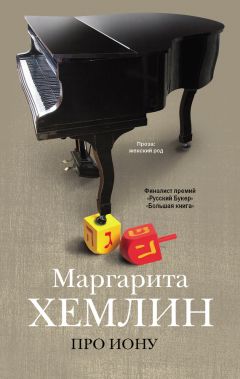Наталья Иванова - Новый Белкин (сборник)
Но позвольте, – задаюсь я робким вопросом, – а что делать с Белкиным? Надо же объяснять вновь прибывающим молодым, что эта проза, так похожая на нынешнюю литературу «для домохозяек» (и где они видели таких домохозяек?) или на индийское кино, которое во все века – индийское, – что на самом деле это пародия, отчего и ржал и бился Баратынский, знавший объект пародии. Надо же уважить автора и вернуть утерянное по недосмотру. А утеряна ни много, ни мало часть репутации гения. Не думаю, что он бы согласился на такой купаж, – мол, от него не убудет. Убудет. Одно дело, когда школьник знает, почему стиль этой прозы именно таков, и совсем другое, если ему скажут, что это гениальная проза гениального Пушкина, – так недолго и жизнь впечатлительному подростку испортить, он же ориентацию потерять может, заплутать – где гений, а где иной.
И не важно сейчас, кого пародировал Пушкин в повестях Белкина, – есть уже на эту тему работы (по иронии судьбы, именно «литературовед в шинели» подошел ближе всех). Важно другое. А именно – риск писателя, отдающего реке времени текст с запечатанной в нем тайной в надежде на умеющих читать рыбаков будущего. И, как видим, надежды его в очень многих случаях не сбываются – рыбаки либо не умеют читать, либо не знают, что такое принцип дополнительности, когда литература дополняет биографию писателя, а биография объясняет его литературу. Вот в постсоветском литературоведении появились, например, новые подходы к «Горю от ума», где робко предполагалось, что Чацкий вовсе и не положительный герой. Но для этого не нужно быть филологом семи пядей – достаточно вспомнить историю реального Чаадаева и сравнить ее с историей литературного персонажа Чацкого.
После решения некоторых частных случаев уравнения Пушкина решил было я донести до любознательных, о чем на самом деле (по-моему, естественно) писал поэт в последнее десятилетие его жизни. Поскольку разразиться статьей на эту тему тогда еще казалось мне неэтичным – истфаков с филфаками не кончал, – то написал я рассказ, назвал его, как полагается, «Пророк», опубликовал и начал ждать реакции. Ее не последовало. На прямые вопросы пожимали плечами – да, видно, что с Пушкиным связано, и что? и зачем? а что там нового может быть?
И таким было восприятие расшифрованного текста, легко, казалось бы, усвояемой выжимки. Эксперимент подтвердил все те же опасения – не читали, и не будут читать, а если кто и прочтет, то ничего никому не докажет. Потому что первое слово дороже второго. А писатель, таким образом, оказывается в ловушке собственного ума – или его излишка, той прибавки, дельты, на которую он умнее среднего, пусть и профессионально обученного, веда. Все, что он тщательно задумывал, вкладывал, подгонял, оставлял кончики, за которые должен был потянуть тот самый любознательный читатель, чтобы размотать все смотанные и спрятанные смыслы, – все это оказывается никому не нужным, и так сложно устроенное произведение приходит к будущим читателям одной своей оболочкой, которая без учета ее настоящего содержания выглядит странно – как шекспировский «Гамлет», пушкинские «Повести Белкина» или «Сталинская Ода» Мандельштама. Но человечество не замечает подмены. Оно привыкает жить с гениями, которых загнала в рамки наша любовь к немудрящему, понятному нам слову.
Изменить порядок вещей нельзя – он сложился давно, когда появились писатели и читатели. Но писатели могут извлечь из этого порядка уроки. Эти уроки просты и эффективны. Не нужно делать ставку на ум читателя, не нужно ничего прятать и закапывать, пока твое слово свободно. Искать скрытые смыслы в литературе – удел живущих в те времена, когда слово художника может стоить ему свободы, а то и жизни (такие времена возвращают художнику самоуважение, которое он теряет в период свободы, – так и дышит Творец в своих тварях и творениях).
А в наше время писателю нужно писать очень простые вещи, в которых нет потайных карманов, двойных стен или дна, где зазор между формой и содержанием минимален, где форма обтягивает содержание, как тонкая перчатка... Рецепт успеха – не перед читателем, а перед самим собой, своим демоном, – в искренности, в собственных слезах над вымыслом, который и не вымысел вовсе...Все что нужно, это рифмовать вечные «кровь» и «любовь». Только делать это талантливо, с умом и сердцем.
Помимо всех преимуществ – такой литературе не нужны посредники между писателем и читателем. Разве только издатели. Но о них – в следующий раз.
Андрей Немзер
Я родился в 1957 году в Москве. Учился на филологическом факультете МГУ (1974– 1979), затем (1979– 1982) там же в аспирантуре (кафедра русской литературы), защитил диссертацию о прозе графа В. А. Соллогуба (1983). Работал в журнале «Литературное обозрение» (1983– 1990), «Независимой газете» первого состава (1991– 1992), газетах «Сегодня» (1993 – 1996), «Время МН» (1998 – 1999), которая затем превратилась во «Время новостей», где и продолжается моя служба. Печататься начал в 1979 году – и все не могу остановиться. С 1991 года преподавал историю русской литературы (всю, насколько учебных часов хватало в Российской академии театрального искусства. В последние годы – профессор кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики, где читаю лекции о словесности XIX века и второй половины века прошлого (с заходом в новейшие времена).
Мои родители не были гуманитариями (мама – доцент в техническом вузе, папа – инженер), но литература (особенно – поэзия), живопись, музыка занимали в их мире огромное место. В детстве я читал много и бессистемно; довольно рано открыл две книги, которые упоенно перечитываю до сих пор – «Войну и мир» и «Три мушкетера» (со всеми продолжениями). В одиннадцать или двенадцать (точно не помню) лет случайно начал читать стихи Пастернака, был ими совершенно заворожен. Хотя Пушкина и Некрасова я полюбил раньше (Лермонтов, как это ни нелепо, мне в детстве «не нравился»), думаю, именно Пастернак «объяснил» мне, что поэзия (словесность, искусство) – это чудо. Кстати, позднее в тот «золотой» ряд, что для меня открывается романами Толстого и Дюма, прочно вписался «Доктор Живаго».
В 1973 году началась дружба с Колей (Николаем Николаевичем) Зубковым, тогда моим одноклассником, в университете – одногруппником, ныне – замечательным библиографом и незаурядным (хотя почти никем не расслышанным) поэтом. Коля и тогда писал стихи, я – тоже. Он настоящие, я – никакие, но с надлежащими вывертами. Наши бесконечные разговоры о поэзии и филологии значили (и до сих пор значат) для меня очень много. В том же году я познакомился со Львом Иосифовичем Соболевым, которого по сей день считаю моим учителем литературы. В университете я учился преимущественно у друзей – у нас была большая, пестрая и удивительно яркая студенческо-аспирантская компания,о которой, может быть, кто-нибудь из нас когда-нибудь напишет подробно и внятно.