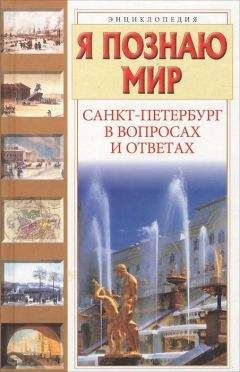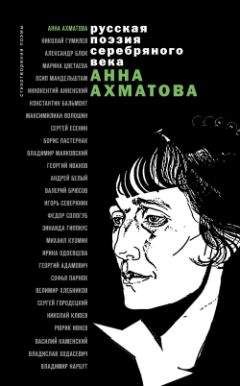Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Как в воду глядел. «Футуристы, кроме Хлебникова, не бедствовали», – скажет позже Ахматова. – Особенно Маяковский («этот господин всегда умел устраиваться»)… А уж когда случится революция, то новая власть, которой не нужна была – и даже представлялась опасной! – старая культура, станет платить ему регулярно и помногу[209]. Сестре жены Брюсова, Брониславе Погореловой, Маяковский, встретив ее после революции, скажет: «Вас удивляют мои зубы?
Да, революция тем и хороша: одним она вставляет новые, чудесные зубы, а другим безжалостно вышибает старые!..»
54. ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ (Адрес второй: Пушкинская ул., 20)
Он писал про флейту, а нутро, душа его просили барабанного ора. Он был слабым человеком, но именно потому хотел казаться сильным. И барабан победил: забил, заглушил, подавил флейту. А придуманный образ «мачо», как сказали бы ныне, закрыл от посторонних глаз и нежную, и на первых порах ранимую, душу. В этом, думаю, трагедия Маяковского. И поэта, и человека.
Трагедия эта будет «аукаться» ему и в отношениях с женщинами. Всегда и со всеми. Слабый, он будет разыгрывать из себя сильного. А флейту любви, образно говоря, даже с ними, женщинами, все чаще будет менять на любовь барабанную – революционную любовь!..
Дольше всех рядом с ним была Лиля Брик. Всегда третьей или всегда – первой. Это как посмотреть. Но знаете ли вы, что, когда она была ребенком и отец ее, богатый юрист Урий Каган, приучая дочь к музыке, покупал ей то скрипку, то мандолину, она, отвергая все, потребовала купить ей барабан. Она тоже любила барабан!
Впрочем, в 1913 году он пока не знаком с ней. Живет в Петербурге на Пушкинской улице, в огромном угловом здании, где тогда была знаменитая гостиница на 175 номеров с пышным парижским названием «Пале-Рояль». Кто только не жил здесь – Чехов, Куприн, Шаляпин. Шаляпин, назвав «Пале-Рояль» «приютом артистической богемы», сказал, что хороша в нем только «отлогая лестница», по которой ему легко было взбираться даже на пятый этаж. Ныне этот дом – сплошная коммунальная квартира. Но и просторный подъезд с лепниной, грубо замазанной синей краской, и действительно отлогая лестница – все сохранилось!
На каком этаже находился номер 126, в котором поселился Маяковский, я, разумеется, не знаю, но, думаю, бегать по этой лестнице поэту было еще легче: ему ведь только-только исполнилось двадцать. Убогие однокомнатные номера были одинаковыми, но в каждом – это подчеркивалось в рекламных проспектах – был альков для спальни. Это было важно, ибо в любой комнате этой вечно нетрезвой гостиницы любви было столько же, сколько клопов. Клопов запомнили и донесли до нас в воспоминаниях почти все постояльцы «Пале-Рояля». Но именно здесь, в этом «клоповнике», перебывали все возлюбленные Маяковского, которых всегда было (одновременно!) не меньше двух. Да-да, это и необычно, это почему-то редко отмечают знатоки жизни Маяковского.
«Ему нужно много мяса, с утра до ночи, круглосуточно, – объяснил недавно причину самоубийства Маяковского поэт Виктор Соснора, подразумевая под “мясом” женское тело. – Он предлагает брак сразу четырем женщинам: Полонской, Хохловой, жене Хосе де Ривера и Яковлевой. Все отказываются. Хуже того, отказываются от брака и женщины на ночь».
Вот так! Какая лестная, казалось бы, для «мачо» версия суицида – самоубийства поэта в тридцать семь лет! Но Соснора долго дружил с пожилой уже Лилей Юрьевной Брик. И… с ее слов рассказывал, как Маяковский уговаривал «женщин на ночь» выйти за него замуж и как получал их отказы. То есть, Лиля Юрьевна, устами Сосноры, как бы передает нам «привет» с того света – убеждает нас и после смерти своей, что к концу жизни поэт никому уже был не нужен. Никому, кроме нее. Удобная версия, не правда ли? Хотя, как мы знаем теперь, именно Лиля стеной вставала между поэтом и его стремлением к семейному очагу… Почему? Да просто выгода – выгода-с!..
Здесь, в «Пале-Рояле», в декабре 1913 года поэт заканчивает трагедию «Владимир Маяковский»[210], сочетая это с драчливыми вечерами футуристов и с репетициями трагедии в театре. «Толкусь!» – коротко напишет отсюда сестре. И сюда же приведет свою любовь – ту, которая сидела в залах, когда он «эпатажно» читал стихи. Я обещал назвать ее имя. Так вот, это Софья Шамардина – Сонка, девятнадцатилетняя «бестужевка», в которую были влюблены Игорь Северянин, поэт Ховин, даже семейный уже тогда Корней Чуковский. В Москве у Маяковского другая любовь – шестнадцатилетняя Верочка Шехтель, дочь знаменитого архитектора. Она, кстати, только что помогла ему выпустить первую литографированную книгу, громко названную «Я», и он, дурея от радости, прыгал вокруг нее на одной ноге и острил: «Входите в книжный: – Дайте стихи Маяковского. – Стихов нет, были, да распроданы»… Это происходило в личном особняке в стиле модерн архитектора Шехтеля на Большой Садовой улице в Москве, на втором этаже дома №4, который и ныне украшает эту улицу. А в Петербурге, повторяю, в «Пале-Рояле» у него уже Сонка.
«Маленький номер с обычной гостиничной обстановкой, – вспоминала она. – Стол, кровать, диван, большое овальное зеркало на стене. Зеркало помню потому, что вижу в нем Маяковского и себя. Подвел меня к нему, обнял за плечи. Стоим и долго смотрим на себя. “Красивые, – говорит. – У нас не похоже на других”…» Не похоже, верно. Возвращаясь откуда-то в санях, он буквально на ее глазах, задрав голову в небо и подбирая слова, сочинил: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают…» Потом, видимо, здесь, в «клоповнике», умолял ее: «Сонка, отдайся!..» Так якобы было написано сначала в поэме «Облако в штанах», где, как говорила позже Лиля Брик, вместо имени Мария должно было стоять Сонка. Это оспаривают[211]. Не оспаривают другого, что Чуковский, услышав в поэме строку–просьбу, сказал Маяковскому, подделываясь под его «хамоватость»: «Что вы! Кто теперь говорит женщине “отдайся”? Просто “дай!”» Так возникло в поэме знаменитое: «Мария, дай!» Грубое, бесстыдное, шокирующее. Но он и хотел быть грубым, и звонким, как барабан. Хотя с Сонкой у него действительно все было не похоже на других.
Познакомил Маяковского и Шамардину Чуковский, по одной версии – в Женском мединституте (ул. Толстого, 6/8), на вечере футуристов. «Высокий, сильный, уверенный… в плечах косая сажень, – вспоминала она о первой встрече с поэтом. – Редкий короткий смешок. Угловатые движения. Любил стихи Ахматовой (“Ахматкина”, – говорил, шутя)». В первый же вечер, провожая Шамардину домой, попытался поцеловать ее в пролетке, но она в ужасе выскочила на ходу. Он догнал ее, извинился и повел в гости к Хлебникову, который до утра станет читать им стихи. С этого дня на всех вечерах он и Сонка стали появляться вместе – их принимали даже за брата и сестру. Но для нее это кончилось опасным, поздним абортом. Из-за нее, уже в 1920-х годах, в Берлине, он так рассорится с Горьким, что крикнет про Буревестника: «Такого писателя в литературе не существует, он мертв!..»