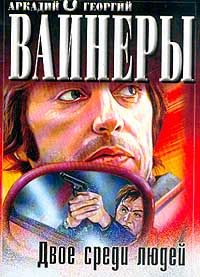Аркадий Вайнер - Петля и камень в зеленой траве
Провожающих стаскивали с забора равнодушные милиционеры, и дворничихи гнали метлами, зло материли за то, что они топчут чахлые газоны вдоль ограды.
А в неподвижной ненормальной киноленте все шли и шли люди. Когда-то давно они, видимо, догадались, что пленка остановилась, и пошли сами — из кадра в кадр, пока не исчезали в самолете.
В одном кадре молодой парень, сорвав с себя плащ, счастливо размахивал им, как флагом, над головой. В другом — две женщины везли на инвалидной коляске старика. В следующем — привалился к стеклу мужчина и глотал из стеклянного патрончика лекарство. Потом — пробежал щенок-доберман, поджарый, проворный, как молодой еврей. И шла вприпрыжку маленькая девочка с голубыми бантами и куклой на руках.
Исход.
Потом стих поток людей. Опустел стеклянный коридор. Одиноко прошагала проводница в синей шинели с красной повязкой на рукаве.
Смыли изображение с пленки. Навсегда?
Выморенность, пустота, тошнота, как перед обмороком. Мои конвойные с двух сторон вдруг взяли меня крепко за руки — я проглядел, как появился в первом кадре желтоглазый боец.
Шел бойким шагом из клеточки в клеточку, на середине обернулся, махнул рукой, и я увидел Улу.
Совсем близко — за двумя стеклами — вели ее мимо меня двое. Они держали ее под руки, и я видел, что она и шага без них не ступит.
Я знал, что это Ула, и не верил. Это не ее лицо. Это посмертная маска — назойливо подробная копия черт, из которых ушла жизнь. Это не ее слепые глаза. Они убили ее душу.
Легкая, гибкая, быстрая, Ула шла через остановившуюся ленту по-старушечьи осторожно перебирая ногами.
Я видел совсем близко ее неподвижное лицо в стеклянном квадрате коридора, и это прекрасное, любимое, мертвое лицо проникало в мое сердце, оно заполняло меня целиком, швыряло в радостную дрожь, стремление бежать, кричать, что-то делать, стать больше самого себя, это лицо заслоняло собой все — аэропорт, сидевших рядом человекопсов, огромное желто-синее морозное небо, оно растворяло два разделявших нас стекла, и я, чувствуя, что от невыносимой боли кровь моя брызнет сейчас из каждой поры, закричал изо всех сил:
— Ула!.. У-л-аа-а!..
И навалилась сразу же охрана, они запихивали мне в рот свои толстые тупые руки, пригибали вниз голову, и сверху еще наседал шофер, у которого брат удивлялся, что евреи уезжают из Москвы, и они почти придушили меня, заталкивая на пол машины.
А потом отпустили, я выпрямился, рванулся, но кинолента была пуста и насквозь просвечена косыми лучами солнца.
На прутьях забора висели гроздья провожающих, будто их взрывом разметало по ограде.
Потом вернулся желтоглазый бандит, уселся удобно на переднем сиденьи, и от борта самолета откатили трап, надсадно заревел тягач-буксировщик, сдернул потихоньку самолет с места и покатил его на взлетную полосу…
…Не помню, как ехали назад. Всю дорогу желтоглазый объяснял, предупреждал, грозил, предостерегал — ничего не слышал, не понял я и не запомнил. Помню только, как высадили они меня у подъезда моего дома, и желтоглазый сказал мне через открытое окошко машины — а я уже стоял на тротуаре:
— …Одумайтесь — завтра будет поздно…
Вошел в лифт, нажал кнопку, и было почему-то ощущение, что кабина ползет не вверх, а плавно проваливается в преисподнюю. Ах, да! Я и не заметил, как оборвалась последняя нитка изношенного троса.
У дверей своей квартиры стал шарить ключ по карманам. В бездонных провалах брезентового балахона сыскал мелочь, носовой платок, писательский билет, ручку. Дуськин желтый зуб о четырех корнях. А ключа не было. Потерялся. Или оставили его себе присяжные ФЕМЕ, чтобы ходить ко мне запросто.
Долго трезвонил я в дверной звонок, равнодушно размышляя, что и открыть-то мне некому — в нашей выморочной квартире никого, наверное, уже не осталось.
Потом затопали чьи-то шаги в коридоре, и по кабаньему тяжелому поступу узнал я Евстигнеева. Отворил дверь и смотрел на меня опухший, красный, дикий — не узнавая.
От него разило перегаром, потом, чем-то нечистым.
— Эй, ты, геноссе! Пропусти в дом, — отодвинул я его с дороги. И он вспомнил меня, пошел понуро следом.
— Слышь, Алексей Захарыч, забрали вчерась мальцов Нинкиных в детдом…
— Да? Почему?
— Она, параститутка, по пьяному делу под машину попала… Теперя долго в больнице пролежит… Ну, мальцов и взяли на казенный кошт…
— Ну, что ж, поздравляю тебя — одни мы с тобой тут остались.
— Заимно! — серьезно кивнул мне кудлатой ватной головой Евстигнеев. — Слышь, Алексей Захарыч, я чуть не запамятовал — тебе сегодня утром почтальонша пакет принесла…
Шаркая, цокая, топоча, нырнул он к себе в берлогу, а я вошел в свою комнату и, не снимая плаща, завалился на диван, закрыл глаза, выключился.
Прошли часы или несколько минут — не знаю, около меня стоял Евстигнеев, протягивал пухлый разодранный пакет — так выглядят возвращаемые из издательства рукописи.
— Ну, что там? Ты же, наверняка, посмотрел…
Евстигнеев сочувственно покачал головой, почмокал губами:
— Пишут, что не подошла издательству ваша книга. Пока, мол, не подошла, и нет, мол, у них сейчас возможности ее опубликовать. А вы, мол, дальше пишите, желают творческих успехов…
И осторожно положил рукопись на стол. Ушел в коридор, и оттуда доносился ко мне его разговор с самим собой — громкий, горестный, возмущенный:
— …Сам никогда стакан не поставит, а ему нальешь, — как кашалот раззявит пасть…
В комнате было сумеречно. Я встал с дивана, взял рукопись и присел на подоконник. Исчирканные, замусоленные, мятые листы. Галочки на полях, знаки вопросительные, восклицательные, карандашные пометки — «что автор хочет сказать?»
Автор больше ничего не хочет сказать. На последней странице нетвердой рукой, видимо, выпившего рецензента написано: «Все вопиющее из рукописи выбросить, остальное сжечь!»
Я отворил фрамугу, порыв холодного бензинового угара хлестнул в лицо. Неистовый поток бесцельно мчащихся по Садовой машин. Они истолкли уже утреннюю заморозь на асфальте в липкую черную грязь.
Взял первую страничку рукописи, высунул на улицу и разжал пальцы. Листок на короткое мгновенье замер, будто раздумывая, что делать ему на свободе, и тотчас же взмыл, подхваченный порывом ветра.
Потом бросил второй, третий, четвертый…
Они вылетали из рук радостно, стремительно, они догоняли друг друга, сталкивались, разлетались в разные стороны, поднимались выше, плавно кружились и постепенно оседали вниз, как огромные снежинки.
Большой был роман — как много белых страничек гонял сейчас осатанелый ветер по улице. Они прилипали к лобовым стеклам машин, застревали в кузовах грузовиков, таранили мостовую, и тут их сразу же колеса размешивали с тягучей глинистой жижей.