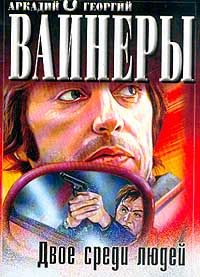Аркадий Вайнер - Петля и камень в зеленой траве
Махнул я на него рукой:
— Я вам уже сказал: никто вашим фальшивкам не верит. И — повторяю: я забил «рыбу».
— На что же вы надеетесь? — поинтересовался Юрий Михайлович.
— На вашу корыстность. Рассчитывать на ваш здравый смысл не приходится. Надеюсь, что вы прикинете, подсчитаете, сообразите — взрывать эту бомбу нет никакого резона. Проще и выгоднее бомбу разрядить, выслав отсюда Улу. Пока еще вы, — я поочередно показывал на них пальцем, — можете сами решить этот вопрос. А если бомба взорвется, то ваши действия будут оценивать ваши начальники. И нет никакой уверенности, что они признают их правильными…
…Я стращал, уговаривал, торговался, и в памяти моей неосознанно проплывал завет Соломона, поучавшего строго: «Сознание правоты подсказывает Гамлету все — и выбор средства, и выбор секунды, и чувство ритма, и чувство меры…»
Ведь бомбы у меня никакой не было. Вернее, она была, но закопанная в глину холмика на отцовской могиле — для них совершенно безвредна. И сознание моей правоты наделяло меня силой, и я сам начинал верить, что бутылка с вложенными листочками — бомба, и не закопана она на Ваганьковском кладбище в ногах у моего отца, а давным-давно вывезена Севкой, и хранится у него, и в любой момент может быть взорвана криком на весь мир, и обещанием этой готовности были слова Севки у стеклянной дверцы в аэропорту с надписью «Дипломатическая стойка».
«Мне надоело пить рыбий жир…»
Они ушли куда-то, наверное, совещаться. А меня по-прежнему сторожил дремлющий квадратный Сергуня, шипело реле в часах, трещал негромко рассыхающийся паркет, и раскачивали меня плотные волны усталого возбуждения, горели уши, слезились глаза, и я верил, что мне — сотни лет, я бесконечно стар, и мысли были нечеткие, быстрые, как сны.
И все происходящее — просто, бедно и нелепо, как в абсурдной выдумке слабоумного. Жизнь, наверное, действительно проще наших представлений.
Какая странная игра! Скорее бы все закончилось. Все! Ни на что больше сил не осталось. Удивительную жизнь я прожил — ничего не успел сделать. Целую жизнь я прожил для того, чтобы один раз пугануть бандитов. Хотя, в наших условиях и это — немало. Ничего я не чувствовал — ни скорби, ни боли, ни страха. Я выгорел дотла.
Они могут не принять моих условий — если бессмысленная злобность окажется больше их корыстности. Но уздой на злобность служит их трусость. Они всегда выигрывают, потому что глушат беззащитных и безоружных. Они боятся встречной силы. И считаются только с силой.
И если этот вопрос решают не они сами, а какое-то начальство над ними, то они наверняка еле заметно жулят и тихонько подыгрывают мне. Им риск непонятен и ненавистен.
Они признают только громадное превосходство сил. Полную безнаказанность.
Но могут быть какие-то не известные мне обстоятельства. И они не захотят принять мои условия. Или не смогут. Тогда всему конец. Бомба не взорвется. Ее все равно что нет. Кровь Шурика — на мне — останется неотмщенной. И Улу навсегда погребут в психушке. И зря ждал меня тридцать лет Соломон во тьме небытия, надеясь, что мне удастся доиграть Гамлета, и это чудо, как в детской сказке, даст ему воскресение.
У меня и страдать сил не осталось. Как у последнего солдата разбитой линии обороны. Только готовность умереть, не сойдя с места.
Истекали часы. Я дремал, откинувшись на спинку стула, и меня спросонья познабливало в моем толстом китайском плаще, и невесомость дремоты раскачивала из стороны в сторону, и мне снова виделась Ула — неясным размытым отпечатком, с букетом увядающих золотых шаров, он звала меня куда-то, показывая на уходящую вдаль серую шоссейную дорогу, у обочины которой сидел на корточках незнакомый улыбающийся человек, и я знал, что он немой, он многое мог бы рассказать, но я знал заранее, что он нем, и чем мы ближе подходили, тем вернее я узнавал это улыбающееся лицо с толстыми стеклами бифокальных очков, и улыбка уже была гримасой острой боли, и лицо его было мертво, и я знал — что это Шурик…
Передо мной стоял Крутованов и вбивал в меня гвозди коротких злобных фраз:
— Она будет выпущена… примем меры, чтобы не болтала… вы будете, естественно, под постоянным надзором… если там опубликуется хоть слово… вас в тот же день изолируют навсегда… вопрос о вас будет решаться отдельно… шпионаж… до смертной казни включительно…
Что он меня пугает, глупец? Хотя он не ведает, что за выигрыш у машины надо заплатить жизнью…
Все ставки сделаны, победитель платит за все, игра подходит к концу.
62. УЛА. ТОРОПЛИВЫЙ КАТАФАЛК
Не думаю, чтобы они догадались о моем плане. Скорее всего, они всегда так конвоируют. Серые коренастые мужики крепко взяли меня под руки, а Выскребенцев бойко затопал впереди. И, пока мы шли по длинным полуосвещенным коридорам, спускались по серым зловонным лестницам, я старалась не виснуть у них на руках, не спотыкаться, не заплетаться отвыкшими от ходьбы ногами — я хотела, чтобы они поверили в мою послушную покорность.
Как они повезут меня в Сычевку? На машине? В арестантском вагоне?
Ноги все равно плохо слушались. Ничего не меняется. Как во все времена — евреи сами идут к своей могиле. Это, наверное, часть ритуала нашей смерти. Мне не повезло — я родилась во времена упадка и наступающего краха эпохи. А когда родился мой отец? А когда родился мой дед, убитый немцами в Умани? За великий дар нашей неистребимости, нашей вечности, Господь дал нам тяжелую ношу — мы всегда живем при крахе каких-то эпох.
Выскребенцев собственным ключом — «квадратом» — отпирал перед нами бесчисленные двери, пропускал в них, запирал и снова обгонял, и твердо печатал шаг. Он задержался в тамбуре входной двери, заскрежетал замок, звякнула цепь-накидушка, распахнулась тяжелая створка, и в лицо мне ударил морозный свежий воздух, у меня закружилась голова, и я качнулась, тяжело просела в руках у санитаров.
— Ну-ну-ну! — закричали они разом, сердито и немного напуганно, вцепились мне в плечи, поволокли вперед. Но я уже и сама справилась.
Еще перед вечером шел дождь, все текло грязными унылыми струйками. А в ночь приморозило — и прямо перед собой я видела краснеющий край неба, исполосованного как трещинами, темными прочерками сухих голых сучьев когда-то бушевавшего здесь желтым пламенем клена.
А надо мной небо еще было черно-синим, бархатным, в крупных серебряных звездах, и казалось оно мне чародейским колпаком, криво насунутым на сухонькую безумную головку земли.
Господи, как я не хочу умирать! Алешенька, прощай, мы ничего не успели… Алеша, спасибо тебе за все, — не твоя вина, что у тебя не достало сил спасти меня от страшного провала открытого передо мной люка санитарного автобуса.