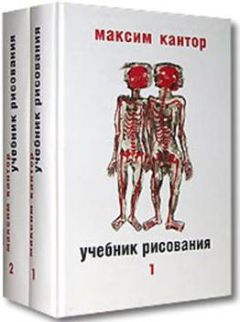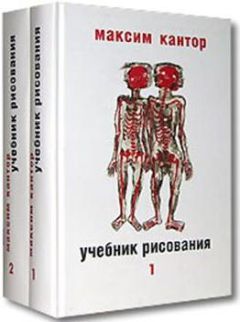М.К.Кантор - Учебник рисования, том. 1
- И что же теперь делать?
У Соломона Моисеевича был дар выводить своего внука из равновесия. Павел был взрослым человеком; в беседах с коллегами, с искусствоведами, с Леонидом Голенищевым он держался хладнокровно и умел находить аргументы и точные слова. Но манера Соломона Моисеевича - патетическая манера ведения диалога - всегда возбуждала собеседников: словно именно сейчас надо вскочить и бежать - спасать погибающий мир. Сам же Рихтер, произнося призывы, сохранял спокойствие.
- Что ж, - безмятежно сказал Рихтер, - выход из кризиса возможен. Нет вещей, которые нельзя преодолеть. Надо сделать усилие. Требуется придумать новый, то есть четвертый, парадигмальный проект истории. Этим как раз я и занимаюсь.
Татьяна Ивановна отжала белье и развесила его на веревке, протянутой от кухонной двери через прихожую до гвоздя, вбитого в дверь книжного шкафа. Рихтер всегда морщился, когда проходил сквозь мокрые рубашки, чтобы снять с полки нужную книгу. Татьяна Ивановна занялась кухонными делами, и дед с внуком, беседуя, слышали звяканье посуды; вскоре Татьяна Ивановна позвала их пить чай.
Соломон Моисеевич пожевал губами, подумал и встал.
- Мы, кажется, уже пили чай. Что ж, пойдем пить чай еще раз. Надо побыть с бабушкой. Да, кхе-кхм, если так надо, пойдем пить чай. Беседу мы можем продолжить и за чаем.
Соломон Моисеевич был терпеливым человеком, он терпел эту странную жизнь уже шестьдесят лет подряд.
19
Не существует такого движения руки, а значит, и не существует такого мазка кисти, который был бы присущ одному определенному художнику и никакому иному. Всякий художник рано или поздно повторяет взмах кисти своего предшественника - просто потому, что возможности анатомии ограниченны и амплитуда движений довольно однообразна. Набирая на кисть краску с палитры, художник оказывается в зависимости - от тяжести кисти, от количества краски, от приемов обращения с тем и другим. Живопись, в конце концов, это физическая работа - а физическая работа не может быть бесконечно оригинальной. Так, мазок Ван Гога, при всей его непредсказуемой энергии, иногда напоминает мазки Джеймса Энсора, мазки Вламинка похожи на мазки их обоих, а движения немецких экспрессионистов повторяют всех трех сразу. То, как работал кистью Эдвард Мунк, весьма похоже на некоторые движения, совершаемые Матиссом, особенно в ранних вещах; армянский художник Сарьян повторяет их обоих. И если уж движения рук значительных мастеров бывают схожи, то что говорить о миллионах незначительных художников: механика движений у всех примерно одинаковая. Оригинальному жесту научиться почти невозможно. Более того, обучение рисованию построено на том, чтобы копировать движения великих художников, и это разумно: повторяя великое движение великой руки, начинающий художник словно пробуждает в себе те чувства, какие мог испытывать большой мастер. Просто эти чувства приходят к нему как бы иным путем: великий мастер переживал, оттого и размахивал кистью, - а тот, кто подражает ему, размахивает кистью - и оттого испытывает набор чувств. Проходит время, и трудно разобраться: в каком случае первично движение, а в каком чувство.
Такое - неизбежное - сходство движений подвигает исследователей к сравнениям и параллелям. Экспрессионисты объявлены наследниками Ван Гога прежде всего на том основании, что выкладывают на холст открытый цвет резким взмахом руки. Художники группы «Бубновый валет» будто бы наследуют Сезанну, оттого что выкладывают мазки елочкой, рисуют тень зеленой краской, а свет - розовой, и так далее.
Одновременно с феноменом неизбежных подобий в живописи существует простой закон, согласно которому художник вполне проявляет себя в самом малом фрагменте. Достаточно увидеть часть руки, написанной Рембрандтом, чтобы угадать автора. Достаточно увидеть десять квадратных сантиметров картины Ван Гога, чтобы понять, что это Ван Гог. Достаточно угла холста Эль Греко, чтобы опознать автора.
Для того чтобы научиться рисованию, следует понять, как оба закона - подобий и оригинальности - уживаются друг с другом. Почему, глядя на фрагмент картины Ван Гога, мы знаем, что это Ван Гог, а глядя на фрагмент картины экспрессиониста - невозможно определить, чьей он кисти?
Ответ прост. Дело в том, что Сезанн не знает, что у него получится, он просто старается рассказать о мире как можно точнее, а художник «Бубнового валета» - знает, что получится на холсте, и о мире рассказывать не стремится. Сезанн старается изо всех сил слепить предмет - средствами, которыми располагает, а художнику «Бубнового валета» не предмет интересен - а красивые средства, которые он использует для изображения предмета. Ван Гог пишет яростно не потому что думает, будто ярость - условие творчества, у него просто по-другому не выходит передать ветер и кипарис. А экспрессионисты используют неистовство как эстетическую ценность и знают отлично, что неряшливая поверхность - есть доказательство страсти.
Отличить оригинальное творчество от поддельного просто. Великий художник старается максимально прояснить изображение, максимально подробно рассказать о явлении - а имитатор затуманивает мир: ему важнее манера рассказа. Природу Прованса и жизнь крестьян можно точно реконструировать по холстам Сезанна и Ван Гога, но никто не воспроизведет жизнь москвичей по картинам группы «Бубновый валет» - эти картины отразили жизнь узкого круга имитаторов прекрасного, барчуков и лентяев.
Глава девятнадцатая
ЧУЖОЙ ПРАЗДНИК
I
Если бы кто-либо решился назвать Гришу Гузкина эмигрантом, если бы сыскался такой невоспитанный человек, то он немедленно бы получил отпор. Случались, случались порой такие казусы: подходил к художнику прыткий журналист с бестактным своим вопросом - но тут же получал он исчерпывающий ответ и ретировался, краснея. Попыхивая короткой трубкой, да поглаживая французскую бородку, Гриша Гузкин в таких случаях отвечал, что в сегодняшнем глобальном мире, когда все - ну, просто решительно все - связано меж собой, понятие «эмигрант» теряет всякий смысл. Ротшильд живет в Англии, бизнес имеет в Америке, гостиницами владеет во Франции, а алмазными копями в Южной Африке - и он, что, по-вашему, эмигрант? Откуда и куда он эмигрировал, уточните, пожалуйста. Или, допустим, взять популярного музыканта: спел песенку там, спел здесь, пожил месяц тут, пожил там - это как понимать: эмиграция? Иной термин здесь уместен, а именно - гражданин мира. Гриша прибавлял также, что нынче и границы уже открыты, нет пресловутого железного занавеса, отсекшего русских мыслящих людей от духовного источника, от Запада; нынче любой студент едет на каникулы на Майорку и ныряет в средиземноморскую волну; так о какой же эмиграции может речь идти, pardon moi? Или такой фактор рассмотреть: ну, уехал, допустим, отдельный интеллектуал на пару лет на Запад - а потом взял да и вернулся. Он, что - реэмигрант или попросту путешественник? Скорее уж путешественник. Вот ведь в девятнадцатом веке ездили отечественные мыслители и мастера духовного на Запад и обратно, катались взад-вперед и это было нормально, не так ли? Тургенев, например. Или Петр Яковлевич Чаадаев. Чем не образец для подражания, скажите? И в качестве самого решительного аргумента Гриша предъявлял собеседнику толстый том сочинений своего великого друга, Бориса Кузина - тот самый нашумевший «Прорыв в цивилизацию». Ведь черным же по белому написано, что Россия есть часть Европы. Доказательства нужны? Тьма доказательств - автор все собрал и подытожил: и развивались мы, русские, по европейскому образцу, и культуры наши схожи, а если случались с нами беды - так пожалеть нас надо, а не отлучать от истории Европы. Да, татарское иго нам изрядно подгадило, отбросило прочь в развитии (Б. Кузин трактует это как «цивилизационный срыв»), большевики-паскуды уничтожили екатерининские плоды просвещения (еще один «цивилизационный срыв»), но нельзя же выключать из семьи европейских народов нацию на этом лишь основании. Если член семейства, допустим, подцепил дурную болезнь, что же - не считать его более родственником? Гриша Гузкин, пускаясь в такие дискуссии, обычно начинал говорить на кузинский манер, совершенно перенимая интонацию московского ученого. «Давайте зададимся вопросом», - говорил Гузкин обалдевшему журналисту, - «а что, собственно, происходило со средневековой Испанией под властью мавров? А? Не цивилизационный ли это срыв, n'est pas?» И Гриша откидывался на стуле и с удовольствием обозревал смятенного журналиста, не находящего внятных аргументов. «Скажем, Ортега-и-Гассет, - гнул свое Гузкин, цитируя своего друга Кузина абзацами, а порой и страницами, - называл приход фашизма на Западе "вертикальным вторжением варварства". Я же предпочитаю именовать такие исторические неудачи - цивилизационными срывами. Вы следите за моей мыслью?» У интервьюера глаза на лоб лезли от эрудиции Гриши Гузкина. Если и собирался какой-нибудь зоил из многотиражки фамильярно поименовать Гришу эмигрантом - так ведь не ожидал же он получить столь квалифицированный отпор. И весь облик художника: его вальяжно скроенные штаны, вручную сшитые ботинки, шелковый шейный платок, прочие предметы западного туалета - дорогие и изысканные, его глубокомысленное лицо в аккуратно подстриженной бородке - все в целом изобличало личность европейского покроя, человека, стоящего вровень с цивилизацией.