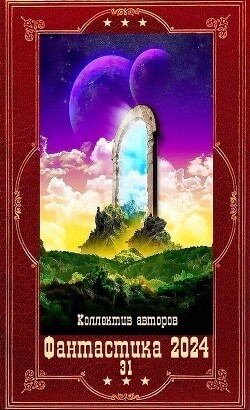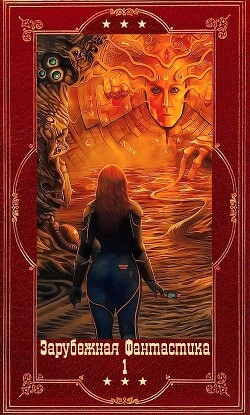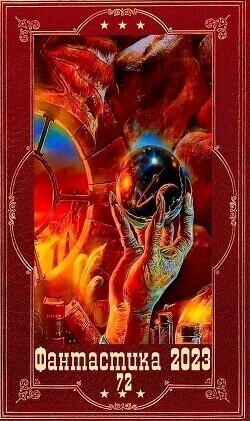Завет воды - Вергезе Абрахам
В своем новом проекте Мариамма сталкивается с одним серьезным препятствием: нечитаемый почерк отца. Любопытным ребенком она залезала в его дневники в поисках пикантных секретов, но все ее шпионские потуги были пресечены микроскопическими строчками, автор которых не терпел полей и пробелов. Отец писал так, как будто бумага была дороже золота, даже если чернила бесплатны. То, что писал он по-английски, обеспечивало некоторую конфиденциальность, но клиновидные буквы напоминали шумерскую письменность. Расшифровывать его почерк — это все равно что изучать иностранный язык. Кроме того, самые ценные мысли могли быть погребены в море банальных ежедневных наблюдений — за плесенью, например, за ящерицами, падающими со стропил, и прочими пустяками. Когда Мариамма бегло просматривает заголовки в блокноте, она обнаруживает ЗАПАХИ, СЛУХИ, ВОЛОСЫ (НА ЛИЦЕ И НА ТЕЛЕ), СТУПНИ и ПРИВИДЕНИЯ. Несмотря на эти вехи, уже через несколько страниц записи отклоняются от заданного курса, отец переключается на что-нибудь другое и никогда больше не возвращается к прежней теме. Никаких указателей или перекрестных ссылок у него не существовало. Не может быть и речи о том, чтобы просто пролистать страницы. Предстоящая задача обескураживает. И кажется непосильной.
Каждый вечер, перед тем как уснуть, она вспоминает Ленина. Если б только можно было поболтать с ним, вспомнить о событиях дня. Она рассказала бы, как хорошо ей дома; одна беда, что теперь она не может быть здесь никем иным, кроме как доктором. Скорей бы закончилась эта повинность и можно было начать учиться нейрохирургии.
А как прошел твой день, Ленин?
Жутко даже представить. Да и жив ли он вообще? А если он погиб, как она об этом узнает?
Ума приходит в восторг от идеи «опухоли разума» и воодушевленно поддерживает ученицу. И Мариамма каждый вечер корпит над дневниками, по ходу дела составляя указатель. Это выматывающая работа, от которой пальцы ее в вечных медных пятнах от папиных чернил. Постепенно скорость чтения увеличивается. Указатель расширяется. До сих пор единственное наблюдение о работе разума отца — это его способность перепархивать от темы к теме, как мотылек в комнате, полной свечей. Так и выглядит опухоль сознания? Но от некоторых фрагментов у Мариаммы порой перехватывает дыхание:
Вчера вечером Элси рисовала, сидя в постели, а я смотрел на профиль моей жены, самое прекрасное, на что когда-либо падал мой взгляд. И внезапно у меня случилось видение, как будто открылся портал во времени. Я увидел путь Элси как художника так же ясно, как путь стрелы, летящей в небе. Я понял, как никогда прежде не понимал, что она оставит след для грядущих поколений. Я ничто в сравнении с ней, мне лишь посчастливилось жить в присутствии такого величия. Я так разволновался, едва не расплакался. Она заметила странное выражение моего лица. Но ни о чем не спросила. Может, прочла мои мысли и все поняла, а может, ей показалось, что она поняла. Она отложила набросок и толкнула меня на спину. Она овладела мной, как королева, пользующаяся одним из своих клевретов, но, к счастью, я единственный клеврет, которого она любит. Моя единственная претензия на вечную славу будет основываться вот на чем: меня выбрала Элси. Она выбрала меня, и, значит, я чего-то стою. Вот и все мои амбиции: оставаться достойным этой выдающейся женщины.
А в другой вечер Мариамма натыкается на абсолютно иной момент в браке родителей, он словно удар дубиной: после жуткой смерти Нинана ее родители ополчились друг на друга. Ее бросает в холод от слов отца, таких грубых и безжалостных на странице блокнота: мучительная боль от сломанных лодыжек; ненависть к себе за то, что не спилил дерево; несправедливый гнев на Элси за то, что сбежала из Парамбиля, — ко времени этой записи мама отсутствовала уже шесть месяцев. Мариамма и не подозревала, что они расставались! Слова отца бестолковы и бессвязны, спасибо опиуму. Вместо «опухоли разума» Мариамма разглядывает выгребную яму рассудка наркомана. Да, это научный поиск, но объект под микроскопом — ее отец. Его мысли разрушительны для нее.
Мариамма закрывает дневник, выходит из комнаты, борясь с искушением отказаться от исследования.
Прошу Тебя, Господи, пока я иду вслед за мыслями моего отца, не дай мне в итоге возненавидеть человека, которого я люблю и боготворю. Не отнимай этого у меня.
Ноги сами несут ее к Каменной Женщине, светящейся даже в сумерках. Сама сущность ее матери, воплощенная в камне, постоянна, как ничто другое в жизни Мариаммы; своей неподвижной позой она выражает терпение природы, времени, которое измеряется веками, а не часами или минутами. Мариамма долго сидит рядом с ней.
— Недуг… это ведь просто жизнь, да, Амма? — обращается она к Каменной Женщине. — Может, я ищу вовсе не разгадку тайны Недуга или тайны своего появления на земле. Тайна заключается в самой природе жизни. Я и есть Недуг. Может быть, я ищу не особенности работы разума Аппы, ключи к наследственному заболеванию. Наверное, на самом деле я ищу тебя, Амма.
глава 75
Состояния сознания
Пустая скамейка перед амбулаторией с утра — слишком хорошо, чтобы быть правдой. Доктор Т. Т. Кесаван, дипломированный специалист, — ее новый коллега. Т. Т. первым осматривает пациентов и направляет к ней только тех, у кого серьезные жалобы. Скамейка ожидания скоро заполнится, но, по крайней мере, Мариамма не зашивается еще до начала рабочего дня.
Войдя в кабинет, она испуганно шарахается — на табуретке около ее стола сидит и весело ухмыляется очень смуглый босой мужчина в шортах и рубашке цвета хаки. В чертах его заметно нечто непальское, несмотря на темный оттенок кожи, и лицо у него такое же, без возраста, только по седым бровям и седой копне волос можно предположить, что мужчине далеко за шестьдесят.
— Доброе утро, доктор, — приветствует он по-английски, вскакивая на ноги. — Доктор просить Кромвель передать вам!
Мариамма разворачивает записку, одновременно пытаясь разгадать, что же такое сейчас услышала.
— Я Кромвель, — представляется мужчина.
— Какой еще доктор?
Он указывает на стоящее у ворот транспортное средство — нечто среднее между джипом и грузовиком. На дверце выцветшая надпись ЛЕПРОЗОРИЙ «СЕНТ-БРИДЖЕТ». Внутри сидит белый мужчина. Мариамма возвращается к записке.
Дорогая Мариамма, я врач, который был знаком с Вашим дедом, Чанди. И прошу Вашей профессиональной помощи для больного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Он Вам знаком. Ради Вашей и моей безопасности позвольте дальнейшее объяснить уже в машине. До тех пор, прошу Вас, ни с кем не разговаривайте. Могу я Вас также попросить скрытным образом захватить трепан и те инструменты, которые могут понадобиться для вскрытия черепной коробки и твердой мозговой оболочки?
Еще до ее появления в поле зрения Дигби ощущает некое возмущение в атмосфере. Она идет плывущей походкой, несмотря на тяжелую санджи на ее плече. Она высокая и красивая, красно-голубое сари очень идет к ее светлой коже. Заметная издалека светлая прядь почти на макушке внешне добавляет ей зрелости не по годам. При ее приближении он смущенно краснеет.
Мариамма садится рядом, расправляет сари, ткань складками спадает к полу. Он протягивает руку; у нее теплая и мягкая ладонь, а у него, должно быть, на ощупь грубая и неподатливая, не способная принять нужную форму.
— Дигби Килгур, — бормочет он и неохотно выпускает ее руку. — Я хорошо знал вашего дедушку Чанди. И встречался с вашей матерью, еще когда она была совсем девочкой…
Мариамма внимательно вглядывается в мужчину с глазами голубыми, как сапфиры, сияющими на бледном от усталости, обветренном лице. Тыльная сторона ладони у него как лоскутное одеяло с пятнами ржаво-коричневой и неестественно белой кожи. Свободная хлопковая курта подчеркивает худобу иссохшей шеи. Ему около семидесяти или чуть за семьдесят, он поджарый и подтянутый, но не такой жилистый, как его темнокожий шофер.