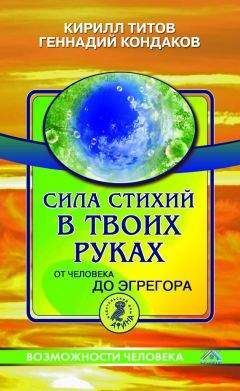Фридрих Горенштейн - Место
– Входите, – сказала Рита Михайловна, с горечью и неприязнью посмотрев на меня – она, очевидно, открыла дверь по настоянию Щусева. (Голос у нее был явно Машин, без всякого налета, может, чуть-чуть ниже из-за никотина. И у меня, несмотря на разочарование, забилось сердце.) – Только тише,– сказала она, когда я шагнул в прихожую, причем и сама снизила голос до шепота,– у меня болен сын, он не спал всю ночь, лишь недавно заснул,– при этом она посмотрела и на меня, и на Щусева, и, кажется, даже на журналиста со злобой.
Все по– прежнему были на том же месте и, мне показалось, в тех позах, в каких я видел их до того, как домработница меня вытолкнула. Но они явно о чем-то столковались и пришли к компромиссному решению, ибо Щусев на замечание Риты Михайловны сказал шепотом:
– Хорошо, и это ваше условие мы принимаем. Значит, сообразил я, были приняты и другие условия Риты Михайловны. (Ибо конечно же она, а не журналист, была главной стороной в переговорах.) А также приняты условия и Щусева. (В частности, впустить меня.)
Мы прошли в кабинет журналиста, кабинет, который меня ошеломил. Все здесь было вкус и богатство, но богатство изобретательное, до которого иному, дай и миллион, не достигнуть. Я оглядывался и вбирал все в себя. Так вот что существовало на свете, пока я в ничтожестве боролся за койко-место. Это мягкая белая медвежья шкура на полу, старинная тяжелая дворянская мебель, а не полированный модерн, но в углу новейшего типа торшер… Книги вокруг до потолка… Бронза… На стене Пушкин, а не Хемингуэй, но две картины в золоченых рамах явно в стиле сюрреализма (как выяснилось потом – Пикассо), а, конечно, не социалистического реализма и даже не критического реализма. Вот оно, сочетание. Вот он, высший ряд… Но одновременно я понял также, что люди, живущие среди всего этого и всего этого достигшие, не способны всем этим распорядиться в полной мере, и более того, создается впечатление, измучены всем этим. Так думал я, усаживаясь осторожно в роскошное кресло (я сидел в таком кресле впервые). Журналист тоже опустился в кресло, безразлично, скучно и без всякого аппетита. (Эти люди утратили вкус к жизни и к роскоши, а у меня еще сохранились нетронутыми целые пласты наслаждений, которые предстоит познать.) Щусев также ткнулся в кресло безразлично, правда, крайне сосредоточенный наверное на своем плане борьбы с журналистом. (Вернее, с Ритой Михайловной.) И все-таки его план это не мой план. Пока мне еще трудно со Щусевым бороться, тем более действия его пока мне на пользу, разумеется, до известных пределов. Я один. У меня нет никакой опоры. Какая прекрасная опора эта семья. Пять комнат, запах прочности и власти, исходящий от старинной бронзы и современных картин. Мысли о Маше, которые владели мной, когда я увидел похожую на нее мать, даже и на пользу, как я теперь понимаю, ибо они делают Машу не венцом, а этапом… Но меня ненавидят здесь все, кроме, пожалуй, Коли… Хотя кто знает, что с ним, после того, как он оказался запертым… Наверное, ему дали снотворное, иначе бы он среагировал на наш приход…
Так, несколько растрепанно мысля, погруженный в себя, я пропустил начало противоборства. Правда, вел противоборство Щусев, я-то здесь был сбоку припеку, еще не понимая, зачем он меня взял.
– Значит, вы отказываетесь направлять нужные суммы? – говорил Щусев.
Очевидно, этот вопрос он задал во второй или в третий раз, ибо журналист сказал:
– Если вы хотите переломить меня монотонностью вопроса, то вряд ли это удастся. И признаюсь, я вас переоценил. Вы удивительно ничтожная личность, и мне даже жалко, что я буду участвовать в общем показательном судебном процессе, если ваш шантаж увенчается успехом… Разумеется, в качестве свидетеля, но и того достаточно. Вы шантажируете меня тем, что покажете корешки почтовых переводов прошлых сумм, следовательно, докажете мое участие в вашем хулиганстве… И этим вы думаете меня запугать? – журналист хохотнул коротко и небрежно.
Ах, вот до какой остроты дошел разговор, пока я разглядывал мебель и вообще был сосредоточен на своем. Лицо журналиста выглядело теперь жестко, даже жестоко, причем, пожалуй, к себе и к своей семье, ибо я знал, что со Щусевым так говорить не следует. Это человек опасный и смертельно больной. Я видел, что даже и Рите Михайловне такой поворот в журналисте (ох, как часты, буквально ежеминутны были в этом человеке повороты), даже и Рите Михайловне, нашей главной противнице, такой поворот не понравился, и она, по-моему, помимо всего усмотрела еще и вызов себе и противоборство ее опеке, которая журналисту начала надоедать.
– Сколько вам надо денег? – быстро спросила она Щусева.
– Деньги нужны не мне, а России.
Я понял, что он на грани и колеблется между желанием примириться или сделать в противоборстве следующий ход. Но тут журналист, которым овладело капризно-злобное состояние, главным образом на себя и на свою прошлую покорность (это чувство мне знакомо), торопливо спросил, чтоб не дать Щусеву вернуться к покою и миру:
– Скажите, вы не родственник архитектора Щусева, строившего мавзолей Ленина?
В принципе вопрос был обычен и неудивителен, но только не в данной ситуации и не в данном развитии взаимоотношений, когда дело надо было закруглять. К тому же Щусева уже наверное по этому поводу спрашивали много раз.
– Нет, – начиная даже слегка дрожать, сказал Щусев с ненавистью (его прорвало). – Я другой… Меня в концлагере на ж… сажали…
Он выразился грубо, невзирая на присутствие женщины, и громко, (Весь разговор до того происходил по просьбе Риты Михайловны шепотом.)
– Замолчи, – не стесняясь нас, впрочем, поставленная в крайнее положение, прикрикнула на мужа Рита Михайловна.
– А мне надоело, – тоже выйдя из пределов, выкрикнул журналист, – разумеется, я совершил много непродуманных поступков в сталинские времена…
– Жертвам, на которых вы доносили…– перебил Щусев, – было безразлично, продуманы ваши поступки или нет.
– Я не доносил, – сказал журналист также с ненавистью, которая крайне не шла к его доброму лицу и делала это лицо даже в чем-то пугающим. Есть лица, к которым ненависть просто не лепится.– Я не доносил…– повторил журналист,– ибо в сталинские времена мне не на кого было доносить… Я не имел тогда дела с мерзавцами… И пожалуйста, прекратите здесь употреблять грубые слова… При женщине…
– А, вы о ж…– сказал Щусев, – я поясню… Сажать на ж… это скорее условный термин… лагерный… Это значит взять провинившегося заключенного за руки и ноги, сильно eго растянуть и одновременно по команде отпустить. Он ударяется о землю сразу и часто не имеет при этом внешних повреждений, но внутренности его приходят в негодность… Особенно в этом смысле страдают легкие… После трех сажаний кровотечение неизбежно…
Мне кажется, Щусев говорил сейчас с искренней горечью и злобой, даже потеряв нить противоборства. Он, безусловно, имел в запасе какие-то ходы против журналиста, ведь недаром же он взял и меня с собой. В чем-то он и меня намеревался использовать. Но поведение журналист (оно было для Щусева ново и неожиданно), но поведение потянуло весь разговор не туда, а его искренность при воспоминании о пытке помешала ему довести дело до конца и прибрать вновь журналиста к рукам. Причем лучше всего было бы, если б журналист вел свою циничную линию, тут-то его и можно было подловить, и тут-то, я отметил это для себя, и тут-то сказались недостачи Щусева, ею уличная грубость методов. Впрочем, его действительно трогали за больное, а это всегда мешает тонкости и противоборству. То, что журналист после слов Щусева утратил свой цинизм, было в конечном итоге нам во вред, ибо он как-то сник, потерялся после всплеска, и инициативу явно опять брала Рита Михайловна.
– Сколько? – спросила она. И быстрее уходите, мы ждем врача к сыну…
– Вот как, – посмотрел на нее Щусев, – нам не нужны единовременные пособия на бедность… Нам не нужны еврейские деньги… Еврейский пластырь на русские раны… Щусева явно заносило.
– Во-первых, мы не евреи, – вспыхнув, сказала Рита Михайловна,– а даже если бы и были евреи, какая разница…
Я видел, как она глянула на журналиста, а он на нее… Я видел, как этим людям неловко друг перед другом за все, что сейчас происходило, о чем они говорят и в чем они принимают участие.
– А что же вам нужно? – устало сказал журналист.
– Во-первых, вы должны извиниться за нанесенное мне и моему товарищу оскорбление, – сказал Щусев.
– Хорошо, – сказал журналист, – извините, пожалуйста… Ну, а во-вторых… Во-вторых, поскольку я понимаю, – он полез в ящик стола и вынул хрустящую пачку денег, закрепленную резинкой и, очевидно, приготовленную для каких-то домашних нужд,– вот возьмите… Только уходите побыстрее…
Наступила пауза. Я понимал затруднение Щусева, ибо он, выразившись о еврейских деньгах, ныне не знал, как повернуть и не упустить этой жирной дотации. И я впервые за все время нашего посещения принял инициативу на себя, встал с кресла, подошел к столу и взял деньги из протянутой руки журналиста. Своим поступком я оказал услугу как Щусеву, так и журналисту, который стоял неловко с протянутой вперед рукой. Более того, в действиях моих не было ничего истеричного, чем отличался в этот раз Щусев. (Правда, напоминаю, он был после припадка.) Мне самому понравилось, как я подошел, взял деньги и положил их в карман пиджака. Сказать по-честному, я хотел понравиться этим людям или, в крайнем случае, показать им, что я нечто иное, чем Щусев. И действительно, журналист посмотрел на меня внимательно и сказал: