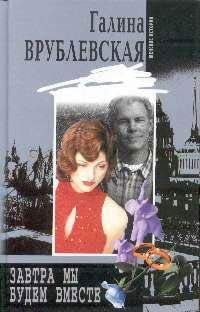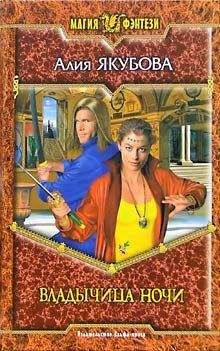Юрий Герман - Я отвечаю за все
В час дня Щукин начал операцию. Владимир Афанасьевич, Нечитайло и даже Богословский только вздыхали, глядя на эти невероятные руки. Восторженная Женя сказала, что пойдет за профессором на край света и что она нигде никогда ничего подобного не видела и не увидит, разумеется, никогда. По онкологии поползли слухи, что «хромой доставала» Устименко привез в Унчанск самого главного академика по раку. Потом вдруг Щукин, из-за своей энглизированной наружности, был произведен в иностранного специалиста. Попозже Амираджиби, любивший «травлю», пустил слушок, что Щукина он в свое время возил на пароходе оперировать не то какого-то короля, не то президента, за давностью времени и секретностью события будто бы детали подзабылись.
В шесть часов вечера Федор Федорович Щукин без всякой помпы, сопровождающей обычно «архиерейские» профессорские обходы, навестил старого своего знакомого Сашу Золотухина, посмотрел шов, покачал головой на уже известную ему ошибку Шилова, хоть, конечно, виду и не подал, по поводу чего качает головой, и сказал, что, по его мнению, не пора ли-де молодому товарищу отсюда убираться? Пора ему, пожалуй, на лыжи. Не так ли, Николай Евгеньевич?
После Золотухина пересел он к Амираджиби. Разговор с капитаном был долгий и бесполезный.
— Воздух и еда, — сказал Щукин тем неприязненным голосом, каким говорят настоящие доктора, когда им решительно нечего сказать. — Заставляйте себя есть во что бы то ни стало! И без конца воздух.
— Я не могу есть! — печально улыбнулся Елисбар Шабанович.
— Икру. Мясо. Рыбу. Фрукты.
— Невозможно.
— Надо себя принудить!
— Не получается.
— Кровь? — спросил Щукин, не оборачиваясь к сестре.
— Девять тысяч, — усмехнулся капитан. — Считается, прекрасно.
Щукин встал.
— Оно и в самом деле прекрасно, — подтвердил он. — Надо взять себя в руки, вот и все…
В десятом часу Щукин позвонил к себе в номер из кабинета Устименки.
— Скоро, — сказал Федор Федорович. — Не обедал. Очень. Ни в коем случае. Потому что остаемся. Никогда. Великолепная. Хлеб да соль есть, остальное неважно. (Богословский в это мгновение подмигнул Устименке.) Бесконечно. Нисколько. Я не так стар, чтобы устать в нормальный операционный день. (Эти слова он произнес почти шепотом.) Немножко потолкуем, и я приеду. Повтори. Еще повтори. Еще. И я тоже. Сейчас.
Закрыв трубку ладонью, он спросил Устименку:
— Елена Викторовна осведомляется, когда ей явиться на работу?
— Завтра, вместе с вами.
— Завтра вместе поедем, — сказал Ляле Федор Федорович. — Привет от Владимира Афанасьевича.
Некоторое время они посидели молча. За окнами визжала мартовская метель, билась в стекла, ухала высоким, устрашающим голосом.
— Машины, к сожалению, у нас нет, — сказал Владимир Афанасьевич. — И вряд ли будет.
— Неважно, — ответил Щукин. Он курил и о чем-то думал.
— Ездить далеко, — вздохнув, пожаловался Богословский. — Трудновато бывает.
— Наплевать и забыть! — повторил Щукин еще раз слова Устименки. Потом вдруг произнес с неожиданной и крутой вспышкой ненависти: — Один ученый людоед, которому я премного обязан в своих веселых жизненных обстоятельствах, не сказал, но написал в ученом трактате, что «проявления лучевой болезни, как правило, даже незаметны для больного и обнаруживаются только при исследовании крови». Видели что-либо подобное? А я, имея дело с отоларингоонкологией, совершенно точно знаю, как ужасно страдают люди облученные, подобно этому вашему грузину-капитану. И никому дела нет.
— Решительно никому, — подтвердил Устименко. — Я горы литературы переворошил, никто этим не занимается. И вы не сердитесь, Федор Федорович, но — что даже вам известно про облепиху?
— Про облепиху? — усмехнулся Щукин. — Довольно много. Но главное — это то, что сбором растения никто не занимается. Не занимаются преступно, потому что это пока единственное в мире средство, которое помогает в тяжких страданиях тем, кого мы пользуем рентгенотерапией. Вы, быть может, хотите, чтобы я рекомендовал облепиху своим больным?
Шел одиннадцатый час, когда Щукин наконец уехал из больницы. Устименко накинул поверх халата шинель и под ударами вьюги, отплевываясь и оступаясь больной ногой в сугробах, едва доплелся до терапевтического отделения. Толстая Воловик, дежурившая нынче, раскладывала пасьянс «Наполеон», когда Владимир Афанасьевич, постучавшись, вошел в ординаторскую. Лицо у него было суровое и усталое, скулы горели от ударов снежного ветра.
— Ужели на отделении так все спокойно, что хоть в карты играй? — спросил он сухо. — И, простите, доктор Воловик, ужели вам и подумать не о чем, что вы себя на дежурстве этим занятием забавляете?
Она смотрела на него кроткими коровьими глазами.
Он, прихрамывая, пошел по коридору. В четвертую палату дверь была приоткрыта. Родион Мефодиевич Степанов дремал, лампа на его тумбочке затенена книгой — томом «Войны и мира» — значит, Варвара здесь.
Он постоял еще в сумерках коридора, послушал.
И понял, что она там, в глубине палаты, помогает дежурной сестре. Звякнула ампула, упав в таз, сестра сказала раздраженно, словно и вправду Варвара тут служила:
— Сильнее протрите, не жалейте спирту!
— А вам не скучно все время сердиться? — со смешком осведомилась Варя.
Потом он видел, как она села на свободную койку рядом с отцом. Ноги ее не доставали до полу, лицо было усталое, но какое-то ласковое выражение как бы освещало весь ее облик уютным и домашним сиянием. А может быть, она улыбалась? Чему?
«Ты чего, Варька?» — чуть не спросил он, как спрашивал когда-то давно, еще на улице Красивой.
Но ничего не спросил, махнул лишь рукой да отправился ковылять по снежным сугробам туда, где его никто не ждал и где он никому не был нужен с его «событиями», вроде приезда Щукина.
БОЛЬШАЯ ИГРА
Эту ночь Гнетов тоже почти не спал и только к рассвету внезапно придумал, что ему делать. Это было, как в пушкинском «Пророке», которого с каким-то тайным, только ему понятным, смыслом читал иногда Штуб в трудные военные часы. Читал, придумав свой очередной «ход». Читал, и зрачки его умно и остро поблескивали под толстыми стеклами очков:
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он,
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Шел восьмой час утра. Гнетов напился воды, выкурил еще папиросу; загибая пальцы, неслышно шепча, подсчитал этапы большой игры. Сердце его билось ровно и спокойно. Штуб ведь учил — ничего не решать в воспаленном состоянии. И постоянно повторял слова Дзержинского о чистых руках, холодной голове и горячем сердце.

![Борис Хантаев - Праздник живота [СИ]](/uploads/posts/books/87303/87303.jpg)