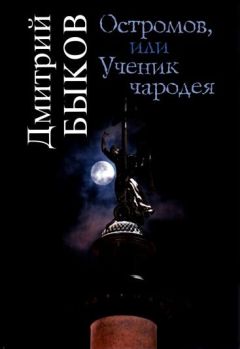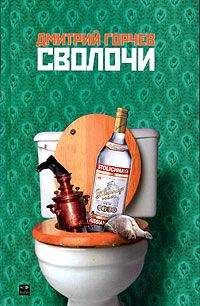Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Будь проклят мир, отнявший у меня все, и я, позволивший это сделать, и все, кто осудит меня за это, и вся безумная иерархия осуждений, которую мы выстроили мартыновским зиккуратом, сводящимся в точку. И будь проклята всякая моя попытка увидеть в мире что-то, кроме этого снега и этого, в просветах между ним, черного, беспримесно черного неба, и этого бесконечно унылого, бесконечно длинного и ненужного дома. Так думал он, всегда бодрствующим краем сознания замечая, что дом и впрямь как-то бесконечно, непривычно длинен, — и вдруг заметил, что вышагивает уже на уровне четвертого этажа.
Ни тогда, ни после — когда практика левитаций стала уже почти управляемой, но никогда гарантированной и тем более привычной, — он не находил ответа, как выглядит в этот момент со стороны; получалось всегда так, что поднимался он в безлюдных местах и возвращался никем не замеченный. Однако шли же среди этой метели какие-то люди, и не могли же они не заметить, как хмурый молодой человек стал вдруг восходить по диагонали к угловому окну, перешагивая невидимые ступеньки. Вероятно, он принимал в это время особый вид, или все атомы, чем черт не шутит, видоизменялись; а найдутся и такие, кто предпочтет объяснить все особым состоянием бреда. И нам нечего будет на это возразить. Очень нам надо возражать на бред. Так лепетал он себе, опасаясь взглянуть вниз, но чувствуя, впрочем, что никакое падение вследствие сомнения ему не грозит; что он, напротив, только крепче утвердился на ногах, и столб метели, клубясь, поддерживает его. Он чувствовал в себе силу усомниться и даже рухнуть, и много еще других сил. Его несколько смущало только, что для обрубания последней привязи сгодилась ненависть, а не благодарность; ну что ж, подумал он, не всем же левитировать по первой модели (и сразу же понял, каковы модели). Избыток и недостаток, умиление и проклятие венчаются единым венцом, — но тут он вспомнил, что не умеет еще спускаться и что общего выхода из первой левитации не существует. «Поздравляю и полагаюсь на вас», заканчивал автор эту главу. Даня заглянул в окно и вспомнил, куда его занесло. Это был дом, где жили Воротниковы и куда он не заглядывал с того самого дня, как увел Варгу к Кугельскому на новоселье. Варги он стеснялся, а с Мишей и Марьей Григорьевной ему не о чем было говорить.
Он стоял перед окном кухни, тем самым, у которого когда-то Тамаркина рассказывала ему про связь с сестрой — как она мотает, мотает эту нить и дотягивает через облака и водонапорные башни. В кухне было теперь темно и пусто, да и время было позднее. Он ногтями ухватился за раму, и она поддалась — в кухнях не запирали и не заклеивали окон, ибо задыхались от чада. Даня легко перешагнул на подоконник, и только тут, на твердой поверхности, у него закружилась голова.
Он закрыл окно и прошел длинным коридором — мимо комнаты Тамаркиной, где жила теперь портниха Индюшаева, в комнату Миши, откуда слабо сочился кислый электрический свет. Миша — похудевший, утративший вместе с детской округлостью последний намек на воротниковскую уютную праздничность, сидел над конспектом. Он поднял голову, и на лице его последовательно сменились страх, неудовольствие и кислая, как желтый свет, попытка изобразить прежнюю экзальтацию.
— Данька, — произнес он вопросительно, а потом утвердительно. — Данька! Сколько лет мы не виделись. Как ты вошел? Опять эти тютюнниковские отпрыски не закрыли дверь. Когда-нибудь вынесут все имущество, и нас заодно. Впрочем, нас не возьмут, мы никому не нужны. Мне пропасть всего надо рассказать тебе, — заладил он, хотя было отлично видно, что рассказывать ему нечего и незачем. — У нас перемены, ты знаешь? Ну, про Тамаркину ты, разумеется, в курсе. Я не знаю про эти ваши дела и точно знаю, что ты не мог быть ни в чем дурном замешан. А Варга как чувствовала. Она тогда сказала, что это все плохо кончится, и сбежала с каким-то артистом, он фокусничает, она танцует. Последнее письмо было из Владикавказа. Это, знаешь, лучшее, что с ней могло быть. Мама очень скисла и сейчас у тети Иры, с которой они друг другу жалуются на жизнь. Олька замужем, он ужасно милый, и я не знаю, чего в нем больше — ужаса или милоты. У него руки как лопаты, он бегает на лыжах и поднимает штангу, называя это «тягает». Он хотел детей, но она пошла и вычистилась. Я этого не понимаю. Меня тоже вычистили, но я зацепился на вечернем. Мне кажется, не надо делать трагедию. Мама говорит, что знала, но она это говорит всегда. Рассказывай же про себя. Я остался в коллективе, меня навещают все свои, и я по-прежнему за многих черчу, заметь, за тех, которых не вычистили. Мне кажется, тут ни к чему огорчаться. Все это чушь и буза. Но расскажи же про себя. У нас затевается постановка процесса Нарымова, ты, наверное, слышал. Будем разыгрывать в ролях, потому что суд — прообраз театра будущего. Я хотел быть обвинителем, но позволили только вредителем. По-моему, важно участвовать, а кем — неважно. Но расскажи же мне наконец про себя! Тамаркина написала одно письмо, что познакомилась там с кочегаром. Как видишь, нет худа без добра. Даже звала к себе на варенье. Она в Ташкенте. Почему-то в Ташкенте только она. Остальных — кого куда, она ни о ком не знает. Но как ты вошел? Мне пропасть всего…
Он повторял это все кислей, все безнадежней, и под конец замолчал, свесив руки между колен.
— В общем, ты был прав, старик, — сказал он. — Мне никогда не притвориться. Я думал, что если все время радоваться, можно как-то влиться. А оказывается пока… но, впрочем, знаешь…
Даня не стал дослушивать его. Он устал говорить с надеющимися людьми.
— Миша, — сказал он. — Послушай меня ровно одну минуту. Я зашел случайно, но, в общем, по делу. Дело самое простое: спроси, пожалуйста, Тамаркину… или, того проще, дай мне ее адрес. Думаю, она мне ответит. Ты же не думаешь, что это я донес?
— Что ты, что ты, — залепетал Миша, но было ясно, что эта подсказанная мысль уже стала для него родной.
— Дай мне адрес Тамаркиной, — попросил Даня. — Мне нужно.
И в нем еще было столько силы, что Миша, не говоря ни слова, протянул ему открытку с кошечкой — на обороте корявым почерком Тамаркиной было выведено несколько строк. Писать ей надо было в Ташкент, в Бешагачский район, до востребования.
— Спасибо, — сказал Даня и вышел из воротниковской квартиры, отомкнув оба замка и цепочку. Не так просты были Тютюнниковы, хоть бы и дети, чтобы не запирать дверей в Ленинграде в двадцать седьмом году.
Глава двадцать первая
С тех пор он не летал довольно долго — главным образом потому, что не хотел убедиться в ошибке: все могло привидеться, да и бессонница в последнее время довела его до того, что он иногда среди бела дня разговаривал с самим собой или воображал облачные города. Но странное дело — чувство вины исчезло, словно новый дар искупил все его прежние грехи и вернул ему право жить; значит, ничто не привиделось и могло повториться, и каждый шаг его сопровождало чувство тайной собственности.
Следующий полет случился в марте, ясным, почти весенним по свету, но все еще холодным и снежным днем, на розовом закате. В отличие от первого, этот второй полет сопровождался тонким чувством счастья, обволакивавшим Даню уже с утра, с рассвета. На обратном пути было так хорошо, что он несколько остановок прошел пешком, жуя рыхлый снег, с наслаждением чувствуя, как ботинки пропускают воду — признак скорого таянья. В парке с веток тяжело опадали подтаявшие снежные грозди. Даня пожевал уцелевшее кислое яблочко, промороженное насквозь, и всерьез думал некоторое время, что яблочко способствовало взлету.
Было так: он проходил мимо окна желтокирпичного дома недавней постройки и вдруг услышал, что на втором этаже играют Баха, «Итальянский концерт», вторую часть. Он сразу узнал эту музыку, и узнал не памятью, а всем существом. Он помялся немного на месте, утаптывая снег, и когда в ровное топтание вступления пробилось вдруг божественное ля-соль-ля, как вскрик счастья и узнавания, и начало кругами восходить, разворачивая гирлянду спиралевидных ступеней, — он без малейшего усилия пошел по этим ступеням, в тающем розовом свете, в мокром снегу, в легком запахе отсыревшей коры. Все постепенно становилось этой темой, то есть она пропитывала собою мартовский сквер, потому что в ней было и то, и то, и это: бралась нота — и проступал клен, снегирь, мальчик с огромным портфелем, идущий из школы, вероятно, с кружка. И как мир, подчиняясь музыке, строился из ее сцеплений, так под каждый шаг Дани сама собой подскакивала ступенька.
Воздух оказался полон углов, ступеней и поворотов. Он дивился, как прежде не замечал его структуры, но тут же поправил себя: ведь замечал. В детстве, когда перед глазами вдруг мелькало что-то вроде слоистых плоскостей, прозрачных, сланцевых стен. Тогда ему казалось, например, что в воздухе можно спрятаться, то есть войти в такую щель, откуда ты уже не виден. Просто не от кого было прятаться тогда, а то бы попробовал. И сейчас он видел эти щели и складки, некоторые из которых были ловушками, а другие — убежищами; но не было пока повода. С какого-то момента земля перестала быть видна, но музыка не переставала, хотя от окна, за которым счастливейшая женщина (он видел это) играла концерт, он был уже чрезвычайно далеко. Дело в том, что музыка была не музыка в собственном смысле, а именно указание по восхождению, чертеж спиралевидных лестниц, по которым он, прыгая с одной на другую, хроматически восходил: при шаге с лестницы на лестницу возникала как бы легкая хромота, и отсюда «хроматически». Это было теперь совершенно понятно. Музыка была описанием того, что с ним происходило, каждая ступенька была клавишей, и, восходя, он сам уже извлекал этот звук, боясь только, что анданте кончится. Но оно уже не кончалось, он мог идти сколько хотел. Ритм был такой: четыре шага вверх, потом все-таки немного вниз, чтобы перепрыгнуть на следующую восходящую, — но тут в центр полукруга просачивался луч, и дальше можно было идти вдоль него. Даня подумал вдруг, что тут не без «Болеро», не без ритмического сходства, и тут же вошел в структуру болеро, отчего воздух заметно потеплел.