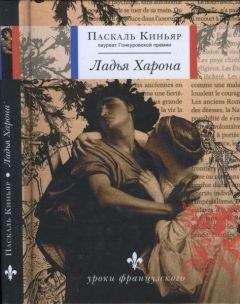Ненависть к музыке. Короткие трактаты - Киньяр Паскаль
В Ионе [140].
Подражание звериным голосам и брачным танцам предшествует одомашниванию: хозяин зверей — предтеча укротителей. Первым свойством охотника стало колдовство: он охотился за дыханиями, за голосами, за видениями, за духами. Эта «специализация» была бесконечно медленной и развивалась постепенно: сперва власть над языком животных, затем власть над посвящением молодых охотников в язык животных, затем власть над смертью и возрождением, затем власть над болезнью и исцелением. Шаман способен освоить в своих странствиях между мирами любой голос, чтобы заманить зверя и повергнуть его к ногам своего племени в конце музыкального транса.
Интересно, что чревовещание, глоссолалия [141], сам факт владения языком животных или попросту говорения «на языках», характеризуют только одного из двух членов шаманической пары. Георгий Шара-шидзе [142] сообщает, что грузины называют того, кто говорит в трансе, «языковедом», а того, чье владение языком визуально, — «птицевидцем».
«Языковед» в трансе повторяет, не понимая и не переводя, то, что духи животных, людей, стихий и растений произносят его устами. А «птицевидец» видит этих духов в образе птиц или иных существ, но не слышит их. Он словно сидит в сторонке и ведет безмолвную беседу с птицами, которые садятся на древко его знамени — хотя никто не видит, как они опускаются на него, — и которые описывают ему в образах все, что видели во время своих воздушных странствий.
«Языковед» в шаманической паре противопоставлен «птицевидцу». Это парное взаимодействие, эдакое chassé-croisé [143], парновзаимодействие даже не пары, а, скорее, более чем одной пары, — обмен местами. Это русская сказка про зоркий глаз и чуткое ухо [144]. Это певец и ясновидец. Это оракул, противопоставленный вещуну.
Это гром и молния.
Это ухо и глаз.
Одержимое ухо, которое передает губам, повторяющим услышанное, это вербальная схватка с чем-то, находящимся за пределами языка, или с другим аспектом данного языка, или с совокупностью языковых систем, которые предшествовали языку, типа: «В те времена, когда звери говорили…».
Глаз, ослепленный молнией, — это путешествие в ночной мир видений — снов, наскальных рисунков, восставших мертвецов.
Каждый раз встреча с грозой происходит словно впервые. Каждый раз при раскате грома тело вздрагивает, а сердце трепещет в кратком промежутке между молнией и громом.
Десинхронизация глаза и уха.
То, что привлекает дождь, двойственно.
Вид молнии в тучной темноте тучи, чреватой дождем, и наводящие жуть раскаты грома независимы друг от друга и вызывают трепет ожидания, страх и смещение временнбго интервала между ними.
И вот, наконец, ливень обрушивается на землю — буйный, как шаман.
Душераздирающий вопль — таков абиссальный [145]призыв.
У абиссального призыва есть два вида органов — звуковые и видимые, к коим нужно добавить рождение, спаривание и смерть.
Мы живем в патетической временной срочности. «Временная» означает «постоянно изначальная».
Постоянно послушная.
Как утверждали древние греки, боги даруют людям органы чувств, дабы откликаться на призыв пропасти под горой или грота-источника. Пиндар пишет в XII Пифийской оде: «Афина даровала людям слух (autos), дабы распространять их стенания».
Николай Кузанский [146] говорил нечто похожее: «Passio (эмоция) предшествует знанию. Слезы предшествуют онтологии: плач оплакивает незнаемое».
Музыка… это инструмент чего?
Какова первоначальная интонация музыки? Почему существуют музыкальные инструменты? И почему мифы так внимательны к истории их рождения?
Как возникли человеческие слушания: 1) коллективные, 2) круговые или квази-круговые? На греческом языке магический круг называется passio. Слуховой или танцевальный круг очерчивает в пространстве то, что латинское in illo tempore (во время оно) вписывалось в порядок времени.
Любопытный расчет, присутствующий в ведических текстах, показывает, что человеческая речь, прибавленная к речи богов, представляет собой всего лишь четверть общей речи.
И в тех же «Ведах» утверждается, что в скрипе колеса повозки, перевозящей soma [147], куда больше мудрости в тот момент, когда она въезжает на место жертвоприношений, нежели в самом глубокомысленном изречении самого проницательного из мудрецов.
Непроизнесенное слово куда более значительно и мудро, нежели слово изреченное.
За исключением случая, когда это последнее, будучи сконцентрировано до предела, в конечном счете преображается в дуновение, — ибо тогда это означает, что жертвоприношение достигло вербальной формы как таковой, членораздельно расчленив ее, разделав, точно жертву.
Музыка в шаманизме обладает совершенно определенной функцией, которая может быть истолкована только лингвистом: это крик, дающий выход трансу, так же как дыхание при рождении находит выход в крике. На Целебесе шамана называют Гонгом или Барабаном, поскольку именно гонг или барабан дают выход застывшим словам (животному рыку голосов духов, которые внезапно просыпаются в теле их пророка).
Ни извне, ни изнутри никто не может ясно различить в явлении, называемом музыкой, что в ней субъективно, а что объективно; что относится к слушанию, а что — к извлечению звука. Беспокойное любопытство, свойственное любому детству, состоит в стремлении различить в звуках, издаваемых телом, — увлекательных, но с возрастом стыдливо скрываемых, — что именно рождается от себя, а что принадлежит другому.
Звучание не сдерживает ничего, разве что выделяет из общей массы тех людей, которые наделены индивидуальным слухом. Это называется «вытащить за ухо». Национальные гимны, городские оркестры, церковные песнопения, семейные песни идентифицируют группы населения, объединяют земляков, подчиняют себе подданных.
Послушных подданных.
Неограниченная и невидимая, музыка кажется всеобъемлющим голосом. Возможно, на свете и нет такой музыки, которая не объединяла бы людей, ибо нет музыки, которая не будила бы, с первых же тактов, дыхание и кровь, душу (то есть легкие) и сердце. Почему современные люди все чаще и чаще слушают музыку в концертных залах, все более и более обширных, а не у себя дома, несмотря на появление частных, самых совершенных технических средств трансляции и восприятия музыки?
Даже самая рафинированная музыка — китайская, неоспоримо одиночная, — выражает в своих наиболее «передовых» легендах идею группового общения или как минимум встречу двух родственных душ.
То есть пары.
Это сказание фигурирует в романе «Сон в красном тереме» [148]: просвещенный Цзя Баоюй был искусным музыкантом, игравшим на цинь (цитре), но оказалось, что лишь один бедный лесоруб Чжун Цзыци был способен понять чувства, которые выражали его сочинения и его игра.
Лесоруб приходил в лес слушать Цзя Баоюя. И заслышав звук цитры своего друга, прятался в тени, среди ветвей.
Когда лесоруб умер, Цзя Баоюй разбил свою цитру, ибо не осталось ушей, способных слушать его песнь.
В романе Цао Чжаня «Сон в красном тереме» Сестрица Линь Дайюй признается Братцу Жадеиту [149], что когда-то она училась играть на горизонтальной цитре. Увы, ей пришлось с этим покончить. Пословица гласит: «Три дня не притронешься к струнам, на кончиках пальцев вырастут колючки». Она объясняет братцу Жадеиту, в чем глубинная суть природы музыки. Учитель музыки Куан, игравший на семиструнной горизонтальной цитре, вызывал ветры и громы, вызывал драконов и шестнадцать черных журавлей, из коих каждому было две тысячи лет. Но цель музыки состоит лишь в одном: привлечь другого. Это Цзя Баоюй, привлекающий Чжун Цзыци в лес. Музыка, направленная на то, чтобы привлечь другого, влечет за собой табу: «Название горизонтальной семиструнной цитры (цинь) произносится как одно из слов, извечно означавших табу. Согласно установлениям древних, этим инструментом неизменно пользовались, дабы поддерживать энергию, присущую жизни». Для игры на этом инструменте важно было выбрать уединенный покой на верхнем этаже дома, либо на высокой террасе, либо в глухом уголке леса, на вершине горы, на берегу широкого озера. И любую музыку надлежало исполнять ночью, улучив тот ночной час, когда небо и земля соединяются в идеальной гармонии, при чистом ветре и светлой луне. И играть, сидя со скрещенными ногами, с сердцем, свободным от всякого гнета, со спокойным и медленным пульсом. Вот почему древние китайцы утверждали, что очень редко удается встретить существо, которое и впрямь умеет понимать тончайшие нюансы музыки. За недостатком слушателей, обладавших таким умением, они говорили, что лучше уж доставлять себе удовольствие играть перед лесными обезьянами и старыми журавлями. Для этого надлежало причесываться по тайной моде и одеваться, следуя строгому ритуалу, дабы не оскорбить своим видом древний инструмент.