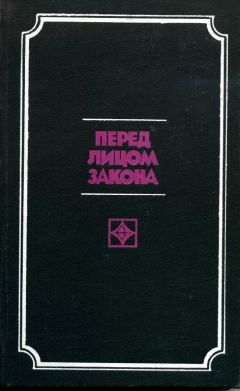Юрий Герт - Приговор
— Обстоятельства...— пробормотал он.— Да, да, обстоятельства...— Странно, Николаев не успел еще произнести ничего такого, с чем бы можно было не согласиться, а Федоров ужо испытывал неприязнь — и к нему самому, и ко всему, что он скажет.
Татьяна, прислушиваясь к разговору, продолжала накрывать на стол.
— Между тем,— продолжал Николаев,— обстоятельства, насколько мне известно, отнюдь не таковы, чтобы считать исход предрешенным... Думаю, и вы так полагаете?
— Да,— кивнул Федоров,— полагаю.— И обрадовался, что может, не кривя душой, хоть в чем-то сблизиться с Николаевым,— Полагаю!— уже с вызовом повторил он, вспомнив о Чижове.
Он вышел из-за стола, в закутке между столом и стеной ему сразу сделалось тесно.
— Они, эти доморощенные наши Шерлоки Холмсы, насочиняли черт знает что и решили, за неимением лучшего, отвести душу на ребятах! Да весь их карточный домик распадется от одного-единственного алиби! Виктор в тот вечер сидел дома, вы у нее спросите, у матери — вместе смотрели телевизор: о чем бы тут и говорить?.. Я уж молчу, что не было и быть не могло никакой причины, чтоб ему с ножом на прохожих кидаться, да еще и на летчика,— с какой стати?.. А Глебу вашему?.. А Валерию?..— Стремительно вышагивая вдоль комнаты, он попеременно задерживался глазами то на Николаеве, то на Харитоновой. Он видел их впервые, но ребят, друзей Виктора, знал давно, и уже поэтому сидевшие перед ним были не чужие для него люди, а то, что происходило с их детьми, тем более соединяло их теперь.— Да и чисто психологически...— Он остановился, сунул руки в карманы и покачиваясь — с носка на пятку, с пятки на носок — проговорил, усмехаясь, обнаружив неожиданно еще один — самоочевиднейший, лежавший на поверхности аргумент: — Психологически!.. Как это возможно, по-вашему: убить, нанести полдесятка глубоких ран и после — как ни в чем не бывало смотреть телевизор?.. Это какие нервы нужно иметь, какую психику?.. Нет, вы представьте себе: ведь это не мясники, не бандиты, не убийцы-профессионалы из какого-нибудь американского боевика. Это всего-навсего мальчишки, школьники, они всю жизнь за партой сидели, они кровь, да и то свернувшуюся, только па кухне видели, когда там цыплят магазинных матери потрошили. И теперь, впервые руку подняв на человека, впервые ударив его ножом, впервые почувствовав, как в тело — живое, упругое тело — входит нож, который ты держишь в своей руке, и на руке у тебя, на пальцах, на рукаве рубашки — липкая, теплая кровь, кровь, которую ты только что пролил... Чтобы после этого — не убежать, не оцепенеть, не обеспамятеть от ужаса, а спокойно вонзить этот нож и еще, и еще, и еще раз... А потом приехать домой да попивать чаек... Таня, вы ведь там попивали чаек, перед телевизором-то?.. Ну, нет, не знаю, как у вас, а у меня воображения не хватает — не срабатывает! Я сам на фронте был, и всего-то чуть постарше, чем мой Витька, я знаю, что такое — убить человека, к тому же — впервые в жизни! Пускай там и война, и враг, и ты — солдат, и тебе винтовка и штык даны не для того, чтоб в ухе ковырять!
— Господи, страсти вы какие рассказываете, Алексей Макарович!— вырвалось у Харитоновой. Она смотрела на Федорова, округлив глаза, сложив руки ладошка к ладошке и прижав их к груди, как на молитве,— Разве я Валерку своего не знаю?.. Разве он смог бы такое?..— Она захлюпала носом, закрыла руками лицо и заплакала, опустив голову и раскачиваясь из стороны в сторону. Татьяна, с упреком взглянув на Федорова, присела около нее, обняла за плечи, но от этого Харитонова только зашлась еще громче и горше.
Видно, я и вправду переборщил,— подумал Федоров, потирая макушку.— Хотя, с другой стороны, я-то здесь при чем?..
— В свою очередь добавлю,— проговорил Николаев, бурое лицо его слегка побледнело,— что в тот день, третьего марта, у меня было дежурство в больнице, но за вечер я несколько раз звонил домой и могу вполне уверенно утверждать...
Глеб, его сын, в тот вечер тоже был дома, он это знал совершенно точно. И однако не в этом лишь дело. Глеб — единственный ребенок у них в семье, и он, отец, вложивший всего себя в его воспитание, тоже знает своего сына. Спорт с малых лет, рыбалка, охота... Он растил не хлюпика-невротика, а настоящего мужчину, сильного, способного постоять за себя. Но бессмысленное убийство?.. Преступление?.. Трусливое бегство?..
Он хирург, и довольно известный в городе, припомнил Федоров, слушая Николаева. Кое-что его насторожило, но он сознавал, что это не имеет отношения к тому главному, ради чего они встретились.
Татьяна увела Харитонову к себе, через несколько минут они вернулись, все пересели к столу. Харитонова, с вновь подкрашенным на скорую руку лицом, уже гораздо спокойней, аккуратно и вовремя выжимая платочком слезы из уголков глаз, чтобы не размазать тушь, рассказала, как вернулась из рейса в тот день, как передала смене свой вагон-ресторан, села в такси на вокзальной площади, прихватив московские покупки для ребят, сына и дочки,— финскую куртку, всю на молниях, и австрийские туфельки-маломерки... Приехав домой где-то после одиннадцати, она застала их спящими, Валерку и Лидку...
Федоров и Николаев терпеливо слушали Харитонову, солидарные между собой и в своем сочувствии к ней, и в слегка насмешливом снисхождении...
Наконец, когда от куртки на молниях и австрийских маломерок она вернулась к тому, что произошло в сквере перед филармонией и к чему Валерий, ее сын, не имел, не мог иметь отношения («Да он мухи не прихлопнул за всю жизнь! Он, когда я в рейсе, и кашку для Лидки сварит, и трусики постирает!..»), Николаев счел возможным перебить ее и обозначить русло для дальнейшего разговора.
— По-моему, мы слишком удалились от темы.— Он смотрел прямо перед собой, на стол, на стоявшую рядом с его чашкой розетку с айвовым вареньем; так же, как из чашки он отхлебнул всего глоток-другой, он и варенья зачерпнул из вазочки одну ложечку, и оно янтарем расплылось по круглому донцу. Темы, впрочем, перед нами две.— Он копчиком ложечки разделил варенье пополам и подождал, пока обе половинки лениво сомкнутся.— Первая — это что же на самом деле произошло третьего марта. Что случилось, как случилось, и, наконец, случилось ли вообще. Но все это, я убежден, не столь важно. То есть это, разумеется, важно, но не сейчас и не для нас. Дело прокуратуры и следственных органов — устанавливать истину, им и карты в руки. Мы — родители, и самое важное для нас — это судьба наших детей. Это и есть вторая, а на мой взгляд — единственная тема нашего разговора.— Он коротко и угрюмо, словно предчувствуя сопротивление, посмотрел на Федорова.— Итак, что следует предпринять, чтобы наименее болезненно избавить наших детей от возникшей ситуации? Они молоды, у них все впереди. Даже если с ними случился какой-то грех — предположим на минуту, что это действительно так — все равно, у каждого впереди целая жизнь, есть время и возможность исправиться. Чего не будет — подчеркиваю, не будет!— окажись они в тюрьме. Поскольку тюрьма, как известно, наказывает, но не исправляет... Значит, наша с вами задача — добиться, чтобы нашим детям не покалечили жизнь...