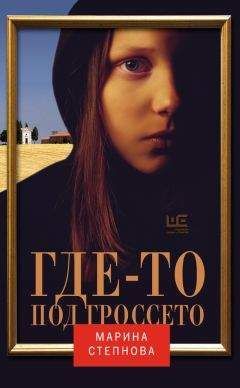Марина Степнова - Xирург
Еще говорили, что он вор в законе, цыганский барон и ебется с трупами.
Но с «ебется» вообще не все было ясно — даже в одиннадцать лет. Хрипунов, еще лет в шесть выслушавший по этой части от старших товарищей энергичный пропедевтический курс, в самый кульминационный момент закашлялся, захлебнувшись беломорным дымом, и, в результате, остался при странной смущенной уверенности, будто «ебутся» — это когда дядька и тетка стоят возле одной дырки (возможно, в полу) и одновременно в нее писают. Какой в этом бессмысленном занятии мог быть кайф и какая тайна — было совершенно неясно. Но уточнять и переспрашивать значило выдать свою сопливость с головой, и потому Хрипунов, отдышавшись и вернув пламенеющим ушам привычный колер, просто смирился с имеющимися фактами, рассудив, что взять со взрослых особо нечего, и что в водке, например, тоже радости немного, что не мешает взрослым со страшной силой ее жрать.
Водку, кстати, Хрипунов пробовал. Еще в пять лет. Ничего особенного. Просто горько.
Надо сказать, эта детская путаница сильно подпортила Хрипунову взрослую жизнь. Никогда потом — ни в восемнадцать (пробный сексуальный шар накануне больших проводов в армию, пьяная, беззубая и ласковая сорокалетняя шлюха в роли первой половой Лорелеи), ни в двадцать восемь, ни в сорок лет — он не испытывал от живых женщинах особого удовольствия — только бледно изогнутый вопрос и неприятное ощущение, что ты что-то явно делаешь не так. То есть, удовольствие, конечно, было — но смазанное, вполнакала и какое-то совсем уж физиологичное, вроде того, что получаешь от здоровенного куска белого теплого хлеба с толстой докторской колбасой. Первые пару минут приятно, нет слов, но доедаешь уже с определенным усилием. Да и вообще, все, от чего веками заходились в лирической дрожи поэты (вся эта выпуклая радость узнаванья и шелковый ночной трепет), для Хрипунова сводилось к двум словам — мясная возня. После и во время которой, если чего-нибудь и хотелось по-настоящему — так это принять хороший и очень горячий душ.
Ножи.
Нож — шпатель. Нож-игла парацентезный штыкообразный. Нож ампутационный большой и малый. Нож брюшистый. Нож глазной обоюдоострый. Нож глазной серповидный микрохирургический по Циглеру. Нож гортанный скрытый по Тобольду. Нож для вскрытия оболочки опухоли. Нож для гипса. Нож для операций в полости рта и носа.
Седина едва тронула бороду Хасана ибн Саббаха, а его уже называли Старцем горы. Люди, пришедшие с ним в Аламут, верили Хасану так, как никогда не верили ни одному богу. Да и что боги? К тому времени они уже, как минимум, пару тысячу лет не баловали зрителей никакими серьезными акциями, перебиваясь копеечными по бюджетным меркам мелочами — сносным урожаем, вовремя выпавшими осадками да иной раз ребенком, чудесно исцелившимся от чумы, которая на поверку оказывалась самой банальной корью, с которой хороший иммунитет расправлялся в пару недель и без дополнительных молитвенных ухищрений.
А Хасан ибн Саббах, возвращаясь в Персию из Каира, спас от бури целый корабль, а ведь бури, в отличие от богов, ничуть не изменились, зло вообще меняется мало, и крошечной деревянной шебеке под жалким треугольником латинского паруса пришлось несладко. Так несладко, что даже бывалые арабские моряки принялись, жалко блюя, ползать по вздыбленной палубе, и молить о милости всемогущего Аллаха. И только ибн Саббах остался совершенно спокоен среди всеобщего воя, как будто шебека не прыгала, как бесноватая, над бездной, бугристой и яростной снаружи, как котел кипятка. И как будто не ходили в тихой и неподвижной глубине этой бездны безмолвные слепые рыбы, ожидая, когда им на головы опустится, наконец, мертвая, сладкая, белесая от морской воды человеческая плоть…
Кино про бурю прокрутили Хасану в голове еще в Каире, прокрутили раз десять — и в рапиде, и Flow-Mo — так что даже самый тупой и сонный фермер, катающий за щекой свой вечный поп-корн, должен был понять, что к чему, и уверовать в неизбежный хэппи-энд. Но раздавленные смертным страхом моряки ничего не хотели слушать — ни увещевающие суры Корана, ни грязную ругань — и тогда Хасан ибн Саббах, шипя от злости, принялся разгонять трусливых шакалов пинками, оскальзываясь на мокрых досках и уворачиваясь от тонн переполненной ветром ревущей воды. Ишаки! — вопил он, — мужчины вы или верблюжье дерьмо?! Я же сказал, что сейчас все стихнет!
И вдруг замолчал.
Повис, вцепившись одной рукой в мокрый канат и так дико глядя перед собой, так что арабы даже выть перестали от ужаса, ожидая не то конца света, не то немедленного вознесения.
А у лица Хасана ибн Саббаха — прямо во взъерошенном воздухе — завис невидимый циферблат, черный, понтовый, со множеством дрожащих, как чихуахуа, стрелочек и насечек. Знаменитый хронограф с ручным подзаводом, использовался на Луне, — бойко протараторил голос — механизм калибра 1861, запас энергии — 48 часов, функции — хронограф, секундомер, календарь, корпус — нержавеющая сталь, прозрачная задняя крышка, ремешок из кожи аллигатора Миссисипи, хезалитовое стекло, водонепроницаемые до 30 м.
Хасан потрясенно молчал, глядя, как самая острая стрелка, задыхаясь, несется к финишу. Видение было настолько невероятно реальным, что он машинально протянул руку — стереть с драгоценно бликующего механизма мельчайшую водяную морось. Голос тут же расшаркался, шикарно, как приказчик, растягивая гласные, — Omega Speedmaster Professional. И с едва уловимой издевкой пояснил — product placement, бешеные бабки заплачены, не изволите примерить?
Хасан коснулся черного циферблата, и хронограф дрогнул, как нефтяная лужица, и как лужица же пошел живой подвижной рябью и полупрозрачными маслянистыми кругами, так что Хасан даже вздрогнул от неожиданности и отдернул пальцы, на которых еще жило прохладное ощущение металла и стекла — гладкое и несокрушимо твердое. От такой тактильной белиберды сердце Хасана мгновенно ухнуло вниз — словно он сунул руку в привычный мешок и вместо куска припрятанной лепешки наткнулся на шелестящий, колючий, ядовитый многочлен. И, чтобы справиться с уколом непривычного страха, он со всего размаху ткнул кулаком прямо в жидкое переливающееся время, сквозь которое мутно мерцали искаженные лица перепуганных арабов, которые не видели ни Альфы, ни Омеги — только насквозь промокшего Хасана, который сперва застыл соляным столбом, а потом дважды ткнул пустой воздух правой рукой. И, словно повинуясь этим жестам, буря мгновенно стихла, будто вылили с неба миллион тонн масла, и ветер тотчас же прекратился, и волны, и только солнце так и не появилось, так что шебека неподвижно зависла в сером мягком киселе — наполовину на небе, наполовину на воде, тихонько, как утомленная лошадь, вздрагивая, когда моряки в такт ударяли лбами в палубу, вопя о чудесном спасении так же неистово, как минуту назад вопили о смерти.