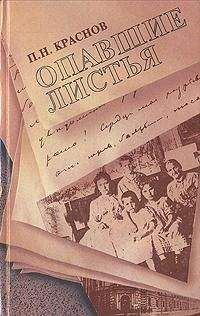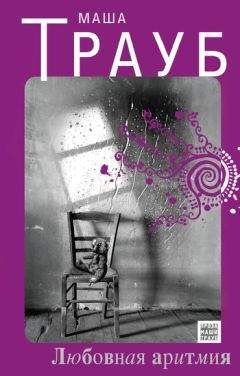Зоя Журавлева - Требуется героиня
Наконец-то построили настоящий мост. Прежний был времянкой, скорее, мостки, чем мост. Река сносила его каждое половодье. И пока льдины грызли друг друга, в школу переправлялись на лодках. Если река чересчур бушевала, вообще не ходили в школу. Любимое было время: отменялись контрольные и прощались все опозданья. И матери каждое половодье писали в газету, что это форменное безобразие, институт буквально отрезан от мира, хлеб не завозят, дети рискуют здоровьем на лодках, может быть, жизнью.
Но риском, по правде сказать, переправу никто не считал: привыкли. Лениво отпихивались от льдин баграми и переплывали.
Перехваченная новым мостом, река неожиданно сузилась и измельчала. Юрий с трудом нашел место, где раньше была переправа.
В то утро даже и льдин уже почти не было. Река входила в берега. Снег осел, но еще держался. Стал только тяжелым и желтым. И на этом плотном снегу Розка Кремнева написала в то утро у самой переправы: «Юрка, я тебя люблю».
Палкой. Как выбила на снегу. У самой переправы, рядом с дорогой. Все шли и смотрели. Восторженно визжали девчонки. Можно было разобрать только, что Розка выиграла у кого-то. Значит, написала – на спор.
Юрок тогда в Ивняках было полно. Но Юрий знал. И девчонки знали, визжа. Даже Леха Баранов, отсталый в этом развитии, ткнул ему кулаком: «Мазила, тебе письмо!» Юрий почувствовал, что даже плечо у него краснеет, аж жжет под пальто. Медленно обернулся. Медленно прочитал – под взглядами. Зевнул. Отвернулся.
Первая лодка уже отчаливала, но Юрий успел прыгнуть. Обругали. Потеснились. На том берегу Юрий вдруг сунул Лехе портфель, влез в автобус и уехал на станцию. Проболтался до конца первой смены, не мог он сегодня в школе сидеть. Видеть Розку. Десять минут, перемена. Не видеть ее. Если бы он тогда не успел прыгнуть в лодку…
В то утро одна лодка перевернулась. Последняя. Всех, правда, быстро вытащили. А кто и сам доплыл. Только парень из третьего «В» нахлебался, уже не вспомнить, как его звали. И учительница литературы, которая у Юрия ничего не вела. Эта учительница так испугалась, что сама же отталкивала все руки. И быстро-быстро плыла по-собачьи. А вокруг нее плыли тетради. Все спасали зачем-то эти тетради. Потом учительница вдруг отяжелела, намокла, наверное, и стала неловко нырять боком. Тогда уже ее насильно втащили в лодку, но все-таки наглотаться она успела.
А Розку Кремневу ударило лодкой по голове, и она утонула сразу, никто даже не заметил. Просто, когда всех вытащили на берег, кто-то вспомнил, что была еще Розка. Но Розки нигде не было. Ее только через двое суток нашли, уже в Москве-реке.
Когда Юрий схватил в прошлом году воспаление легких и валялся с температурой за сорок, он вдруг увидел Розку. Такую, как ее нашли через двое суток, тогда он ее не видел, конечно. Розка, расплывчато-страшная, наваливалась на Юрия и шептала ему в лицо: «Юрка, а я люблю тебя!» И голос у нее был прежний, тот, Розкин, который Юрий забыл и давно уже не мог вызвать в себе. А сейчас, в бреду, этот голос вдруг ожил. И Юрий рванулся ему навстречу, хотя Розка была безликая, черная, не Розка уже, а только Розкин голос. Он свалился с кровати, ударился головой и закричал каким-то последним криком, высоко и слабо. Наташу он в тот раз напугал, долго потом спрашивала, что ему показалось, когда вдруг закричал таким криком.
У переправы тогда за полдня истоптали всю землю, снега не осталось. Юрий до темноты просидел в церкви, за ящиками витаминного сектора. Слышал, как его искали на улице.
Раньше Юрий никогда не думал о боге, просто драл позолоту со старой церкви. И когда во втором классе Ритка Чибасова, Змеюка, подначила: «Мазин, слабо на церкву плюнуть», – он плюнул мгновенно.
А в тот день, сидя за ящиками витаминного сектора, Юрий вдруг подумал: «Если ты есть, пусть Розка!…» Если бы Розку после этого вдруг откачали, наверняка пошел бы по духовной стезе. Но бог упустил случай. Бог, как всегда, ничего не смог, и больше Юрий уже никогда не обращался к нему. Хотя чем старше становишься, тем соблазнительней – веровать: снять с себя часть поклажи и переложить на кого-то. И тем невозможней.
Мать только ночью нашла тогда Юрия. На переправе. Ни одного вопроса не задала. Молча постояла рядом и пошла назад к поселку, не оборачиваясь. Юрий пошел следом. Если тащила бы, убежал. Если б ругалась, не смог бы потом простить, он вообще прощать плохо умеет. Как Борька. А Борьке ведь сейчас почти столько же, сколько ему тогда, на переправе.
Борьку он не ждал. Он ждал девчонку и хотел назвать ее козьим именем Розка, редкое теперь имя.
Из-за Розки Юрий и порвал Некрасова, вредно читать сверх программы. Мать как раз в то лето купила коричневый однотомник, и Юрий вдруг прочел: «Хорошо умереть молодым». И дальше там шла сытая болтовня про кудри, которые надо увить, и еще о чем-то. Юрий проглотил эти строчки, как бритву, взревел в голос и рванул однотомник, рвать было трудно, будто заклепан, ногти сломал, пока рвал. Ни над каким «Оводом» Юрий так не ревел, вот что значит собственный опыт. Он не знал лжи острей и бесчеловечней, чем эта, – хорошо умереть молодым. И теперь не знает. Но тогда между ним и искусством в лице Некрасова не было никакого расстояния. Ни веков, ни километров. Все было о нем. О Розке. Можно только возненавидеть и заорать. Юрий орал, рвал и топал ногами. Мать его так и застала. Мать испугалась, потому что он не был психом и не ревел при ней с тех пор, как помнил себя. Со школы – во всяком случае, замкнутый был звереныш. И еще потому, что она не могла отыскать причину, книг Юрий не драл никогда.
Чувства к Некрасову у Юрия не прошли с годами. Когда в девятом классе им на экзаменах дали Некрасова, все в Юрии сжалось. К этой теме он был готов. То стихотворение по-прежнему хлестало его по пяткам. Написал. Когда вышел из зала, руки дрожали. И внутри стояло какое-то горькое умиротворение. Будто он отомстил кому-то за Розку. Будто смыл оскорбление кровью. Завуч восторженно пискнула, когда он выходил: «Какое вдохновенное лицо, Мазин!» Завуч была кокетливой карьеристкой, искала дарования в своей школе и цеплялась к каждому слову, хорошему или плохому, все равно.
Комиссия прочла сочинение, и сразу потребовали мать, с Юрием они даже разговаривать не хотели. Он пытался не пустить мать, но она, конечно, пошла. Очень долго ходила. Пришла тихая. Сказала:
– Что ты сделал завучу? Она тебя прямо терпеть не может.
– Она всех – не может, – сказал Юрий, не удивившись, хотя завуч всегда будто бы благоволила к нему.
– Ты злопамятный. – Юрий понял, что она имеет в виду не завуча. – Так что же за счеты у тебя с Некрасовым?
– Личные, – сказал Юрий.
Вот тут мать вдруг по-настоящему разозлилась, хочется даже сказать – разгневалась. Такое у нее вдруг стало лицо: жесткое, тонкое, яростно-независимое. С таким лицом героини Тургенева отказывают непорядочному человеку.
– Вот именно. Личные, – повторила мать жестко. – И ты хочешь, чтобы все рылись в этом твоем личном и доискивались причин. Ты заставил всех рыться. Это отвратительно.
– Я писал, что думаю, – напомнил Юрий независимо.
– Это все равно. Лучше бы ты прямо порвал на себе рубаху посреди площади.
– Но я же так действительно думал. Что же врать?! – почти закричал Юрий, он уже знал, что она права.
Когда он крикнул, мать вздрогнула и замолчала. Гневное выражение медленно сползло с ее лица, лицо как-то стихло и будто похудело. Потом она сказала задумчиво:
– Если бы от этого хоть что-нибудь могло измениться…
И Юрий понял, что она даже не Розку имеет в виду. Может, она вообще даже не думала сейчас о Розке. Пропал без вести – иногда хуже, чем убили. Но Юрий все-таки предпочел бы, чтобы Розка пропала без вести…
За сочинение могли даже выгнать. Запросто. Но почему-то не выгнали и даже не приставали, чтобы переписал. Просто влепили трояк, и тем дело кончилось. Одна Лена его тогда поняла, с этим сочинением. Лена его всегда понимала. Он уже сам был с собой не согласен, а она даже не колебалась. Уже тогда она верила в него безгранично.
Пока была Розка, Юрий даже не замечал Лену. Просто Розка вечно таскала ее за собой, как хвост. Они рядом жили. Лена была тогда аккуратной коротышкой. Аккуратно поправляла платье, когда садилась. Даже на велосипеде ездила в платье, мама у нее славилась в Ивняках строгостью нравов. Все Лене было нельзя: плавать, загорать, бегать – все мама не велела. И все делалось тайно, под Розкиным нажимом. От каждодневной этой тайности в Лене жила непонятная боязливость. Она боялась мальчишек, темноты, пустых комнат, дождя. Даже не грозы, а именно – дождя. Когда шел затяжной дождь, Лена подолгу плакала без причины, не хотела выходить на улицу, мама даже водила ее к невропатологу.
Лена была уже в седьмом классе, а никому даже в голову не приходило толкнуть ее в коридоре, чтоб испытать мгновенную, как ожог, близость, или сунуть ей записку в карман, как другим писали. Лена была симпатичной, но как-то неинтересно. Той странной симпатичностью, на которой почему-то невозможно остановиться, глаз невольно скачет куда-то дальше, такое лицо на бегу не остановит. Только Розка всегда таскала ее за собой, защищала, втягивала в игры и выделяла из всех.