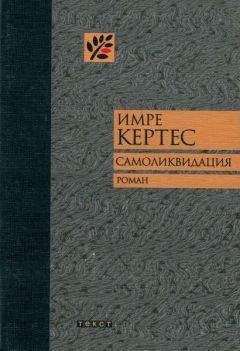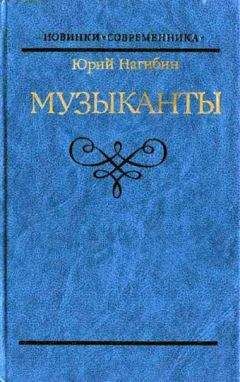Габриэла Адамештяну - Подари себе день каникул. Рассказы
— Надо как-нибудь тебе рассказать — не на ходу — историю Комана, — продолжает Оницою уже другим тоном. — Как-нибудь, когда у меня будет больше времени, расскажу тебе всю эту историю… Только ему все-таки пора на пенсию; стоит ли, из-за нескольких сотен леев каждый сопляк может тыкать в него пальцем… Уйти на пенсию по собственному желанию, — подытоживает Оницою, чтобы у Петрины не оставалось на этот счет сомнений.
Жарко, воздух напоен запахом свежескошенной травы. Обычная дневная суета улеглась, но больше, чем в утренние людные часы, голубоватое здание за их спиной кажется одушевленным — деревьями и тишиной, живыми весенними красками.
— Видно, грядут перемены, и большие перемены, — помолчав, многозначительно произносит Оницою.
А Петрина смотрит на него в замешательстве: следует ли ей задать вопрос или лучше воздержаться, опасаясь чужих ушей? Они с Оницою первыми вышли из зала, когда по углам еще раздавались бурные аплодисменты, а члены президиума тяжело поднимались, поправляли галстуки или, прикрыв рот ладонью, наклонялись к уху соседа. Хоть и первые вышли, а судя по голосам, их вот-вот догонят, с досадой думает Петрина. Но нет, она ни в коем случае не решится торопить Оницою.
— …Ты ее знаешь? — Оницою взял Петрину за руку повыше локтя, и его голубые глазки в глубоких складках желтоватого лица блеснули живостью и хитрецой. — Свояченица Сымботина… Того, из министерства…
Но поскольку он не решается ни кивнуть в ее сторону, ни тем более указать на нее пальцем, Петрина оторопело озирается.
— Я не знала, куда смотреть, и проглядела, — сетует Петрина. И тут же принимается расспрашивать: — Она высокая? Молодая? Какая она?
— Никакая, — произносит Оницою.
И при этом брезгливо морщит нос и с презрением отмахивается.
— Молодая, но не очень — еще не старая, я бы сказал, в районе тридцати… Ни уродливая, ни красивая, ни высокая, ни… Я же говорю — никакая. И одевается неинтересно, хотя, конечно, вещи заграничные…
Он фыркает, и Петрина тоже усмехается. В Оницою есть что-то от монаха и аскета. Такая суровость понятна и знакома ей по родительскому дому. Так ведут себя взрослые, а у взрослых есть чему поучиться. С Оницою она чувствует себя совсем зеленой, моложе, чем на самом деле, — перед ним она просто школьница. Вот и сейчас он будто говорит (когда-то он уже разъяснил ей это): к успеху часто приходят нечестными путями, и те, кто его добивается, мне лично не внушают ни уважения, ни доверия. Об Оницою Петрина пока еще мало что знает, и все же ей почему-то кажется (или это со слов Кристи Пэтрашку?), что у ее старшего друга было немало возможностей подняться наверх, и всякий раз на пути вставала его щепетильность, глубокая порядочность. А может даже, думает Петрина, и он сам отказался подняться наверх.
— …знаешь, кто с ней работает? Кажется, даже в одном кабинете. Коллега Пэтрашку — тот, который приходит к нам пить кофе. Высокий такой…
— Коллега Кристиана? Космович? — поспешно откликается Петрина, и голос ее звучит чуть неестественно.
Или, может, Оницою только показалось.
— Какой Космович! Он не у нас, он в исследовательском отделе, я же сказал тебе, — раздражается Оницою. — Высокий, носатый, зимой ходит в черном свитере с красным рисунком на груди, будто на лыжах собрался, а не на службу, и руки у него длинные, идет — коридоры руками подметает…
— Антон! — прыснула девушка, даже не дослушав до конца. — Антон Ромашкану. Ах, да какой же вы наблюдательный, какой у вас глаз… — И повторила за ним сквозь смех: — Коридоры руками подметает… Бедняга… Вот не подумала бы, что он так выглядит… А еще говорят — бойся женского злословия. О, не хотела бы я попасться вам на язык! Нет, не хотела бы, кто знает, что бы еще пришлось услышать…
Удивленный этим взрывом веселья, кокетливыми интонациями — никогда он не видел, чтобы она кокетничала, это не в ее духе, да и не в его вкусе — ему никогда не нравились жеманницы и кривляки, — Оницою искоса взглянул на нее.
— Я же сказал — спорю на кружку пива!
Они разом оборачиваются на знакомый голос. Пэтрашку — ну конечно же, это он! — на плечи накинута синяя куртка, воротничок красной в крупную клетку рубахи расстегнут, в углу рта незажженная сигарета. Кристиан Пэтрашку говорит, как всегда, с двумя собеседниками сразу и при этом здоровается направо и налево.
— Сколько здесь у Кристиана знакомых! — зачарованно шепчет Петрина; ей чуть-чуть завидно.
— Доживешь до его лет, у тебя столько же будет, — успокаивает ее Оницою.
Голос у него кисловатый, но Петрина этого не замечает. Ей не до того, она все оглядывается, приподнимает и снова опускает руку, мысленно откашливается, как обычно, когда хочет что-нибудь сказать в присутствии посторонних. Пытается подать знак Пэтрашку, привлечь его внимание, но всякий раз в последнюю минуту передумывает.
— Ну как, посмотрим сегодня вечером матч? — Это Пэтрашку кричит Оницою.
Наконец-то заметил их; и Петрина ему улыбается, хотя маловероятно, что он увидит ее улыбку.
— Напомни, чтобы я рассказал тебе о Ромашкану. К нашему сегодняшнему разговору… Не забудь, — говорит Оницою, наклоняясь к уху Петрины.
Что он, не слышал вопроса? Скорее не хотел привлекать к себе внимание — не захотел кричать на таком расстоянии. Потому что шаг-то замедлил — дал возможность себя догнать.
— Не забуду, — удивленно шепчет Петрина.
— …матч… посмотрим? — повторяет у них за спиной Пэтрашку. Он утирает лоб белым платком, морщит нос, щурится от солнца.
Оницою долго глядит на него, подняв колючие брови (из одной торчит длинный волосок), пожалуй, даже слишком долго, натужно улыбается и наконец отвечает:
— У меня телевизор испорчен.
Они молча идут рядом. Стриж, спустившись на бреющем полете, сверкнул округлой белизной брюшка. Шелестят молодые тополя по краям аллеи, облепленные, точно ватином, серыми клочьями пуха. Петрина идет между Оницою и Пэтрашку, и на лице у нее застыла все та же полуулыбка. Даже больше, чем разговоры с Оницою, она ценит прогулку в их компании после работы; не только потому, что все видят, как два весьма уважаемых в их учреждении человека провожают ее до остановки — ее, обыкновенную стажерку, которая пришла к ним всего несколько месяцев назад. Не только поэтому. Во время таких прогулок она каждый раз узнает новости их отдела и даже других отделов: кто с кем поссорился, кого собираются выдвинуть, кто женится, кто болен, кто расходится… И от того, что она узнает, привычные рабочие часы (когда она сидит за чертежной доской, считает, готовит кофе и разливает его по чашкам, моет кофейник и кипятильник, садится за письменный стол, идет в буфет, и снова варит кофе, и снова садится за письменный стол) и хорошо знакомые люди вокруг начинают видеться в другом — немного загадочном — свете. Впрочем, иной раз, когда она идет на остановку с этими двумя мужчинами (которые говорят при ней все, не таясь, просто не обращают на нее особого внимания), она даже не слишком и прислушивается, зачем ей прислушиваться, ведь разговор поддерживать не надо; другое дело, когда остаешься наедине с Оницою. А тут только надо следить за дорогой, чтобы не споткнуться (с ней, как назло, такое случается именно тогда, когда спутники ей небезразличны), идти естественным шагом (лучше бы — изящно, но это она не больно-то умеет). И еще можно иногда попросить, чтобы ей что-нибудь разъяснили (задать даже самый наивный, самый глупый вопрос, и всегда один из них охотно ей ответит); можно иной раз засмеяться или что-то воскликнуть, а думать-то совсем о другом — вот это и есть самое приятное.
Но сегодня они всю дорогу молчат, и Петрине становится не по себе: уж не из-за нее ли? Уж не стесняет ли их ее присутствие?
— Ты почему так держишь сигарету? И не куришь, и… — тихо спрашивает она Пэтрашку.
Надо прервать молчание, а она, как ни ломала себе голову, ничего, кроме этого вопроса, не придумала.
— Да-а, — усмехается Оницою, — вот так вопрос, и ты тоже… Мы, обыкновенные курильщики, ведь мы без затей: зажигаем сигарету, втягиваем дым… А на него посмотреть, так невольно, вроде тебя, спросишь… Возбуждает любопытство, бередит чувства, сама понимаешь, оно интереснее…
Петрина смеется, хотя ей не очень смешно, а Пэтрашку оправдывается: стал слишком много курить, дошел до двух пачек в день — что делать, не хватает силы воли… Так хоть на десять минут себя обманешь.
— …а как вам сегодняшнее совещание? — спрашивает Пэтрашку, будто хочет переменить разговор.
Вопрос стандартный и интонация стандартная: десятки, сотни раз после подобных заседаний он спрашивал то же самое. Но щуплая фигура Оницою подбирается, на лице проступает что-то новое.
— Я разочарован, — произносит он медленно и внятно. — Разочарован всем: и реакциями зала, и президиумом, и в особенности тем, кто вел собрание…