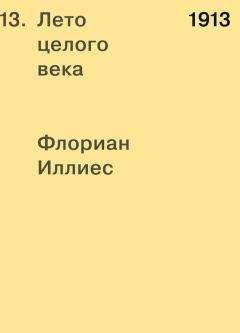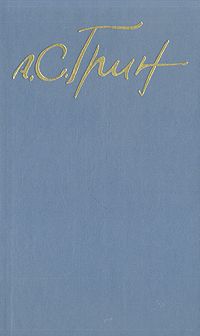Андрей Комов - Аноним
Наконец она встала с колен и, задув "свечу", пошла к своей постели. Но я долго еще не мог понять, где она: тень дерева все носилась по комнате, перемешивая догадки.
Сорок лет спустя я понимаю, что при всем безумии это был наш последний откровенный разговор с матерью. Смысл вырвавшихся у нее тогда слов: "Надо уезжать!" — мне давно ясен, как ясно все это было моему деду в 18–м году и моему отцу в 34–м. Но, как и они, я, ожидая неизбежного, думаю о другом.
Давно в юности, с бесцеремонной дотошностью воображения, способного разрушить любую реальность, это другое переносило меня в машину ОГПУ, бесконечно несущуюся вдоль наклонившихся тополей нашей улицы, медленно опускавшей удалявшуюся кирху. Затем я видел, как в зеркалах лестницы скользят фигуры, а силуэт военного на фоне цветного витража почему‑то делает мне рукой знаки. Наконец мы оказываемся в нашей квартире, и меня охватывает ослепительный кошмар книжного парада, скрывающего лист бумаги с неизвестными мне стихами.
Дальше все повторялось сначала: воображение упиралось в отсутствие памяти о том времени. Позже слова матери соединяли мертво развалившиеся на полу книги с именами Пушкина и Лермонтова в издании Глазуновых, многотомных Карамзина и обоих Соловьевых, неизбежных Брокгауза и Эфрона, Мережковского, журнала "Морской архив", Ницше, Шопенгауэра, Тургенева, Розанова, Достоевского, мелькали розовые пятна обложек Ленина, бесплотно скользил по этой груде Фейхтвангер, запрещенная книжечка о поездке в СССР которого затерялась где‑то у знакомых. И, наконец, весь этот роскошно–бессмысленный для меня тогдашнего пир имен переносился за 48 отведенных нам с матерью при высылке часов в лавку хорошо знавшего нас букиниста, памятно сиявшего нарядной полнотой, как заглавная, расписная буква на фоне безжизненного столбика строк. Рядом с букинистом — моя мать, а между ними, будто видимый боковым зрением, кто‑то третий с большим носом и белым отложным воротником, на портрете, надолго почему‑то совпавший для меня со словом "символисты", книжечки которых я спустя десятилетия суеверно "вспоминал" руками в читальном зале Ленинской Библиотеки.
С годами эти картины менялись, будто я ненадолго просыпался, ощущая театрально–неудобное свое тело, и опять проваливался в сон, становившийся все короче и тревожнее.
Так в армии, особенно на первом году, во время ночных бесконечных дежурств, я силился представить себе Петроград в 18–м году и ту тюрьму, где забили насмерть моего деда, якобы не пожелавшего сдать золото. Но мне виделась все время одна и та же серая с низкими сводами комната, в которой безобразно дергались несколько фигур вокруг черной массы на полу.
Спустя еще несколько лет все сократилось до одного жеста: рука военного берет коробку с пробками от бутылок и, подержав, ставит на место, так и не обнаружив на дне ее тот злополучный лист со стихами. Иногда виделся отец. Он молча сидит за столом и обручальным кольцом мерно стучит по тарелке, а я через годы все подстегиваю и подстегиваю тот давний сюжет, ожидая трагической развязки. Но время, видимо, уже мстило за фальшь и произвольные подстановки. Действие застывало. И даже звук тех ударов кольца о фарфор, будто увязнув на полпути, не доходил до меня, все расширяя и расширяя тоскливую, необъяснимую тишину.
Но еще чаще воображение отказывало, будто ощутив бессмысленность превращения этих сцен в некое подобие действительности. Я стал вдруг понимать, что ничего не помню о том времени. Ровным счетом ничего. Только рассказы матери и ночь, проведенную за занавеской. Словно утро, напоминая о себе легким сквозняком, говорило, что сон не возможен.
Я открывал глаза, мгновенно забывая обо всем, видел мать, рвущую исписанную бумагу, и ощущал в себе ее презрение к этому листку с переложенным на стихи политическим завещанием Ленина.
Утром меня разбудила мать, и, глядя на ее строгий серый костюм и каштановый венок косы вокруг головы, я не мог поверить в свои ночные страхи. Я опять видел перед собой члена ВКП (б) с 24 года, в прошлом работницу обкома, а сейчас фельдшера горбольницы. Она быстро двигалась по комнате, собирая на стол, и я с кольнувшей меня ревностью заметил в ней легкость и отчуждение, сделавшие ее в моей памяти навсегда молодой. Костюм на ней был выходной, и я понял, что уезжаю.
Днем мы пошли с ней в церковь. Мне показалось, что мама давно это решила для себя, и я согласился. Церковь была маленькая, деревянная, совсем не похожая на гулко–высокие храмы, памятные мне с детства. При входе меня поразил томительно знакомый запах самовара и углей, в который тяжелой струйкой проливался привкус ладана. От того ли, что на улице был дождь, или из‑за службы, но народу было много. Серый свет бил из совсем домашних окошек с цветами на подоконниках и гас в душной черноте фигур, с однообразно качавшимися то тут, то там головами в белых платках. Мать, купив свечку, ушла куда‑то вглубь, а я остался у входа с фуражкой в руках, ощущая себя чужим и нелепым. Люди все приходили, невольно двигая меня вперед, и незаметно я оказался в самой середине. Отпевали покойника. Впереди слева стояла мать перед иконой. Она быстро–быстро крестилась и вдруг застывала с чуть разведенными руками, превращаясь на фоне белого окна в деревянную статую.
Выйдя из церкви, мы шли некоторое время рядом с людьми, говорившими о покойном, и я невольно прислушивался. Оказалось, что он был убит в драке и два дня пролежал с расколотой ломом головой на пустыре, как раз неподалеку от нашего дома. Я представил себе эту картину: раскисшую от дождя грязь одежды, нелепую позу, уродливый зевок лица, сине–красное месиво вперемешку с землей, и вдруг понял, что "вижу" нашего уехавшего соседа. Это было, конечно, неправдой. Но препарированное убожество тела, будто собираясь из отдельных кусков, снова и снова принимало знакомые черты, так странно воскрешавшие личность, и мне казалось уже, что этот человек встает, делает несколько шагов и исчезает, а затем все повторяется вновь.
Опять дышу в форточку. Еще только четыре утра. Унять себя невозможно, как и дождаться чего‑то определенного. И эта нечеловеческая пауза — самое нестерпимое.
Иногда мне настолько безразлично отсутствие смысла, что я чувствую что‑то вроде облегчения, подводя итог. Будто я и не жил, а только притворялся, что живу, и теперь могу, наконец, снять личину, требовавшую от меня этой осмысленности. И я пытаюсь ее снять. Но под ней обнаруживается все то же мое "я", мое вымышленное зеркало, моя личность и неистребимая желчь. Особенно по ночам, когда мне так жаль жизни и я не знаю, чего мне жаль. Я вглядываюсь и вижу все то же сероватое стекло, искажающее меня неверием, и ощущаю пустоту болезни, нарастающей за ночь, как годовое кольцо на дереве. "Время идет, а гадина совершенствуется".
Боже мой! Неужели это все когда‑нибудь кончится? Я не верю в это. Не верю. Не верю. Не верю.
ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА
Мы подолгу созваниваемся по телефону. Слышно отчего‑то плохо, и потому ожидание наших встреч всегда полно беспокойством, неизвестностью и радостью. Вы говорите, что уезжаете на дачу, и вдруг замолкаете, потому что меня опять не слышно, и я чувствую, как вы ускользаете от меня на неизмеримое ничем время случая, молча улыбаясь или чуть наклонив голову и наморщив лоб в далеком от меня доме, где растворяется, превращается в невидимое ваше расположение ко мне.
— Алле, а во вторник мы сможем встретиться?
— Не знаю. Может быть мы приедем в город.
— Во всяком случае, я позвоню.
Пауза, вы киваете, наверное, а я, как зритель в темном кинозале, переживаю, что мне опять все загородили и я что‑то пропустил на экране. Я тороплюсь, кричу в трубку, повторяю одно и то же и вдруг начинаю видеть вас и подумываю, что достоинство телефона — в возможности видеть человека и воображать его.
Долгие гудки. Вас еще нет дома, но я жду, что вы появитесь, ответите "А это я", и мне опять почудится, что вы немного напряжены. Однако трубку так и не берут. Будто кто‑то положил мне руку на плечо, я оглядываюсь, вижу долгий, как пустой коридор, вечер и быстро закрываю глаза: загадывать бессмысленно, невозможно, нелепо. Все непонятно и просто, как во сне, который я видел на днях о Достоевском, его потомках и о вас, почему‑то очутившейся среди этих людей. Ночью все было странным и тревожным, а утром я ничего уже не мог вспомнить, помнил только мягкий взгляд и линии лица. Но беспокойство осталось.
Почему я заговорил о Достоевском? Наверное, потому что мы ходили с вами в Петербург, на квартиры его героев, вдоль канала, по жарко раскаленному городу, меряя неторопливыми шагами этот небольшой уголок прошлого, где все так обыкновенно и стерто сегодняшним течением воды в канале, голубым с белыми облаками небом по редкому теплой погоды, гулом машин и хлопотливыми передвижениями людей на улицах, у магазинов и на остановках.