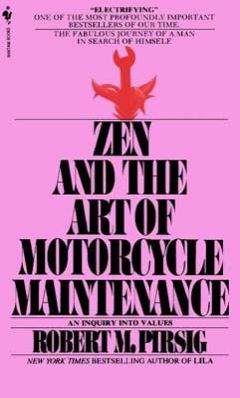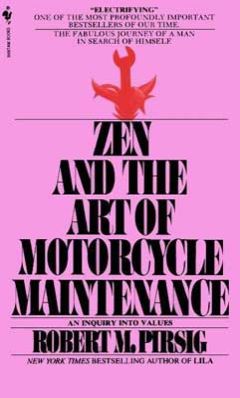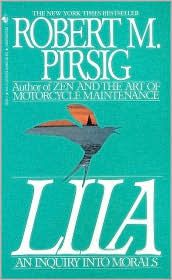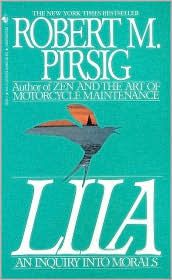Роберт Пирсиг - Дзен и исскуство ухода за мотоциклом
— А чем заканчивается?
— Плохо… ребенок умирает. Призрак победил.
Ветер раздувает угли в костре, и я вижу, что Сильвия потрясенно смотрит на меня.
— Но то — другая страна и другое время, — говорю я. — Здесь же в конце — только жизнь, и призраки не имеют значения. Я в это верю. В это все я тоже верю, — продолжаю я, глядя в темную прерию, — хотя пока не уверен, что все это значит… Я в последнее время почти ни в чем не уверен. Может, поэтому так много болтаю.
Угли медленно гаснут. Мы курим по последней сигарете. Крис — где-то в темноте, но я не собираюсь бегать за ним по кустам. Джон старательно молчит, и Сильвия молчит, и внезапно мы все — порознь, одиноки в своих личных вселенных, и никакой связи между нами нет. Мы заливаем огонь и возвращаемся к спальным мешкам среди сосен.
Я обнаруживаю, что наше единственное крохотное убежище в соснах, куда я положил спальники, — еще и приют от ветра для миллионов комаров, живущих на пруду. Репеллент не останавливает их вообще. Забираюсь поглубже в мешок и оставляю только дырочку, чтобы дышать. Я уже почти сплю, когда, наконец, появляется Крис.
— Там большая куча песка, — говорит он, хрустя иголками под ногами.
— Да, — отвечаю я. — Ложись спать.
— Ты должен ее посмотреть. Завтра сходишь и посмотришь, ладно?
— У нас не будет времени.
— А утром мне можно там поиграть?
— Да.
Он никак не может раздеться и залезть в спальник. Наконец, шорохи прекращаются. Затем он начинает ворочаться. Потом все затихает, и он начинает ворочаться опять. Зовет меня:
— Пап?
— Что?
— Как было, когда ты был маленьким?
— Да спи же, Крис! — Тому, что я в силах выслушать, есть предел.
Чуть позже слышу резкое хлюпанье: он плачет, и я не сплю, хоть и вымотан до предела. Несколько слов утешили бы его. Он старался быть дружелюбным. Но слова почему-то не приходят. Слова утешения больше подходят для незнакомых людей, для больниц — не для родни. Маленькие эмоциональные пластыри, вроде этого, — не для него, не они нужны… Я не знаю, что ему нужно.
Из-за сосен медленно поднимается полная луна, и по ее медленной, терпеливой дуге через все небо я за часом час отмеряю свой полусон. Слишком устал. И луна, и странные сны, и комариный зуд, и разрозненные фрагменты воспоминаний беспорядочно мешаются в нереальном утраченном пейзаже, где сияет луна и в то же время лежит туман, и я скачу на лошади, а Крис со мной, и лошадь перескакивает через ручей, бегущий где-то по песку к океану. А потом все ломается… И возникает вновь.
И в тумане появляется подобие фигуры. Она исчезает, если я смотрю прямо на нее, но потом я ее снова вижу — краем глаза. Я хочу что-то сказать, позвать ее, узнать ее; но останавливаюсь, зная, что признать ее хоть жестом — значит, придать ей реальность, которой у нее быть не должно. Но фигуру эту я узнаю, хоть и не позволяю себе признаться в этом. Это Федр.
Злой дух. Безумно. Из мира без жизни и без смерти.
Фигура тает, и я еле сдерживаю поднимающуюся панику… крепко… не спеша… пусть просто утонет… ни веря в это, ни не веря… но волосы медленно шевелятся у меня на затылке… он зовет Криса, что ли?.. Да?..
6
На моих часах девять. И спать уже слишком жарко. Солнце уже высоко. Воздух вокруг чист и сух.
Я поднимаюсь с помятым лицом и ломотой во всем теле от лежания на земле.
Во рту пересохло, губы потрескались, а руки все в комариных укусах. Болит какой-то вчерашний солнечный ожог.
За соснами — выжженная трава, глыбы земли и песок; всё такое яркое, что трудно смотреть. От жары, тишины, голых холмов и пустого неба возникает чувство огромного, насыщенного пространства.
Ни капли влаги в небе. Сегодня будет палево.
Я выхожу из сосен на участок голого песка среди кое-какой растительности и долго смотрю, размышляю…
Я решил, что с сегодняшнего Шатокуа начнется исследование мира Федра. Намерение было таково: сначала сформулировать еше раз некоторые его идеи относительно технологии и человеческих ценностей, и при этом не соотносить их с ним лично, — но схема мышления и воспоминания, пришедшие вчера ночью, подсказали, что это не метод. Выпускать сейчас из виду его лично означало бы бежать от того, от чего бежать не следует.
То, что Крис рассказал вчера о бабушке своего индейского друга, в первом утреннем свете вернулось ко мне, кое-что прояснив. Она сказала, что привидения появляются, когда кого-нибудь похоронили неправильно. Так и есть. Его так правильно и не похоронили — в этом-то как раз источник всего беспокойства.
Немного погодя я оборачиваюсь и вижу, как Джон непонимающе глядит на меня. Он еще не вполне проснулся и теперь бродит кругами, чтобы очухаться. Сильвия вскоре тоже поднимается; ее левый глаз полностью заплыл. Я спрашиваю, что случилось. Она говорит, что комар укусил. Я начинаю собирать вещи и привязывать их на мотоцикл. Джон делает то же самое.
Когда все упаковано, мы разводим костер, а Сильвия разворачивает бекон, яйца и хлеб на завтрак.
Еда готова, и я иду будить Криса. Он не хочет вставать. Я бужу его еще раз. Он отказывается. Я хватаю дно спальника, мощно дергаю его, как скатерть со стола, и Крис вываливается, хлопая глазами, прямо на сосновые иголки. Некоторое время он соображает, что произошло, а я пока сворачиваю спальник.
Он приходит завтракать с оскорбленным видом, откусывает один раз, говорит, что не голоден, и что у него болит живот. Я показываю на озеро внизу, такое странное посреди полупустыни, но он не проявляет никакого интереса. Только твердит про свой живот. Я пропускаю его жалобы мимо ушей, Джон и Сильвия тоже не обращают внимания. Я рад, что они теперь знают про Криса. Иначе возникли бы трения.
Мы молча доедаем, и я как-то странно умиротворен. Может быть, оттого, что решил, что делать с Федром. Но, возможно, еще и потому, что мы — футах в ста над озером и смотрим поверх него в какие-то западные просторы. Голые холмы, нигде ни души, ни звука; а в таких местах что-то как-то поднимает дух и заставляет думать, что всё, наверное, образуется.
Загружая остаток вещей на багажную раму, я с удивлением замечаю, что задняя шина сильно изношена. Должно быть, сказалось всё вместе: скорость, большая нагрузка, вчерашняя жара на дороге. Цепь тоже провисает, я достаю инструменты отрегулировать ее и не могу сдержать стона.
— Что случилось? — спрашивает Джон.
— В регуляторе цепи резьбу сорвало.
Я вытаскивают регулирующий винт и осматриваю нарезку:
— Сам виноват — сорвал, когда как-то пытался подтянуть, не ослабив осевой гайки. А болт еще хороший. — Я показываю ему. — Похоже, это внутренняя резьба в раме сорвана.
Джон долго глядит на колесо:
— Думаешь, доберешься до города?
— А? Да, конечно. Оно может работать целую вечность. Просто цепь подтягивать трудно будет.
Он внимательно наблюдает за тем, как я выбираю гайку задней оси до тех пор, пока она едва держится, слегка подстукиваю ее молотком в сторону, пока не исчезает провис цепи, затягиваю гайку изо всех сил, чтобы ось потом не соскользнула вперед, и ставлю шплинт на место. В отличие от осевых гаек автомобиля, эту можно затягивать плотно.
— Откуда ты знаешь, как всё это делать? — спрашивает он.
— Тут можно и догадаться, если просто раскинуть мозгами.
— Я бы не знал, с чего начать.
Я думаю про себя: да-а, проблема так проблема — где начать? Чтобы доехать до Джона, надо сдавать все дальше и дальше назад, и чем дальше назад сдаешь, тем яснее видишь, что остается еще больше — пока то, что сначала казалось небольшой проблемой понимания, не оборачивается огромным философским исследованием. А посему, как я думаю, и существует Шатокуа.
Я пакую инструменты, закрываю боковую крышку и думаю: хотя он стоит того — чтобы пытаться до него доехать.
Воздух на дороге сушит испарину от этих цепных дел, и я некоторое время чувствую себя хорошо. Хотя когда пот высыхает, становится жарко. Уже под восемьдесят, должно быть.
На этой дороге нет движения, и мы едем очень неплохо. Хорошо в такой день путешествовать.
Теперь я хочу начать обещанное с того, что существовал некто (его здесь больше нет), которому было что сказать, и который сказал это, но ему никто не поверил, или его никто по-настоящему не понял. Его забыли. По причинам, которые станут понятными позже, я бы предпочел, чтобы о нем и не вспоминали, но другого выбора нет — только вновь открыть его дело.
Я не знаю его истории полностью. И никто никогда не будет знать, кроме самого Федра, а он говорить больше не может. Но из его записей, из того, что говорили другие, и из фрагментов моих собственных воспоминаний должно сложиться вместе какое-то подобие того, о чем он говорил. Поскольку основные идеи, взятые для этого Шатокуа, были заимствованы у него, то большого отклонения, на самом деле, не произойдет — будет только увеличение, от которого Шатокуа станет понятнее, чем если бы я его представил в чисто абстрактном виде. Цель этого увеличения — не агитировать в его пользу и уж конечно не превозносить его. Цель — похоронить его. Навсегда.