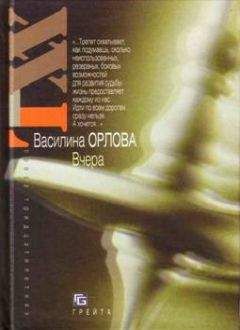Василина Орлова - Больная
— О, привет!..
Но не меньше он любил встречать знакомых.
— Айда, я с тобой на воздух. Немного развеяться и вновь погрузиться в пучину искусства.
Они вышли, накрапывал мелкий снежок. По дороге к земле он становился очень похожим на дождь. И устилал асфальт мелкими каплями, которые увеличивали его поры и трещинки, как линзы.
— Представь, мне из года в год снится один и тот же сон, — произнес Егор, и Валентина вдруг увидела его, как недавно Евгения, словно впервые, без всех тех наносных сведений, которые так или иначе прибило к ее берегу разнообразными волнами.
Егор стоял неожиданно печальный и строгий. Тени легли у него под глазами.
— Сон. С продолжением. У тебя не бывает такого? А иногда, в последнее время, он застигает меня прямо на улице. Как будто вообще — не сон никакой, а самая что ни на есть правильная реальность. Я как будто проживаю еще одну жизнь.
Валентина остановилась, и небрежно сказала:
— Лавры Чжуан Чжоу покоя не дают?
— А-а, старик так нахлестался однажды своего китайского пойла, что ему пригрезилось, будто он — бабочка, а бабочка — это он, философ, уснувший в ином мире. Скажите, пожалуйста! И с тех пор человечество все никак не может досмотреть чей-то там сон про какое-то чешуекрылое. Будто и не снилось никому чего поинтересней… Нет, я конечно не претендую… Но у меня все совсем не так. Вот вообрази… Стой, а тебе правда хочется это слушать? Дело в том, что сны ведь любопытны нам только свои, чужие сны — такая затейливая, сложная нудятина…
— Егор!
— Одним словом, я будто бы летчик. И это мировая война. И у меня самолет, не самолет, а так, пустяки, летающая этажерка. Я надеваю очки, перчатки — там, знаешь, очень подробно все происходит, я прямо чувствую холод стали на виске, кожаный ремешок шлема — ты видела, какие у них тогда были ремешки? Из настоящей кожи, наверное, сыромятной, хотя этого слова я никогда не понимал. Руль, ветер… У меня есть помощник, пулеметчик. Только я никогда не вижу его. Я — пилот. Мы поднимаемся в небо. Мы должны поразить цель. И вот мы летим. Сначала небо очень чистое, что в принципе не очень приятно, засекут же сразу, но с другой стороны, в такую погоду как-то погибнуть может и лучше, а то в туман тоска, да и не видно ни хрена… Но вдруг там, на горизонте, поднимается тяжелая буря, идет черный дым… И почему-то я понимаю, что навстречу гудит целая эскадрилья мессершмитов, хотя их еще не видно… Но они приближаются. И их уже совершенно ничем нельзя остановить. В жизни у меня никогда такого не было. Ты вдруг враз понимаешь: то, что происходит, это по-настоящему. Как тебе объяснить? Не туфта, не глюки, не бред — так действительно происходит: война, и хочется проснуться, и не можешь. А больше всего меня беспокоит, что произойдет, когда я досмотрю этот сон до того момента, как увижу их, а они — меня?..
Глава 6. Снова письма
Опять сто двадцать пять! Когда у него снова началось ухудшение, мы установили по его дневникам. Мать нашла их случайно и довольно поздно. Вопрос, этично ли читать чужие записи без спросу, уже никем не обсуждался. Мы открыли для себя много нового. Версия поменялась — теперь это психотронное оружие, а не НЛП спецслужб. Таблетки не помогают. Дозу подняли до 30 мг в сутки, но толку оказалось мало. Замкнутый, ничего не делает, не читает. Позавчера выкинул сумку с документами и деньгами. Плохо ест. Но таблетки пьет, слава Богу — боится больницы. Анализирует все, что с ним происходило за годы болезни. Все помнит довольно точно. Как-то раз он пытался пересказывать мне свои ощущения — но я недолго выдержала.
Господи, я верю, что Ты не создавал шизофрении, что она результат чудовищного искажения мира из-за человеческого греха. Все эти годы я живу в тени этого несчастья, и не знаю, что мне делать дальше со своей жизнью. Могу ли я создать новую семью, что будет с Димой? Мне говорят: «Он и без тебя пропадет, и с тобой пропадет, нельзя жить чужой жизнью».
Неужели мы нужны друг другу, только пока здоровы, пока стоим на ногах, пока работают руки, пока у нас светлые головы?
Если на следующий год у Дмитрия снова наступит просветление, что он скажет? Что его все покинули, что нет ему дальше жизни, что он никому не нужен. Я, конечно, прожила этот год не в одиночной камере, но все-таки в одиночестве. И обещала, что не позволю себе быть несчастной. Никогда, ни при каких обстоятельствах.
Настоящую любовь я видела в больнице, в Кащенко. Ей было лет пятьдесят, в очках, плотная, приземистая, как большинство женщин в таком возрасте, с сосудистыми «звездочками» на щеках. Не знаю, кем ей приходился перекошенный сумасшедший, который сидел напротив нас за столиком для посещений. Почему-то мы часто сидели за одним с ними столиком, хотя выбирали место произвольно. Так получалось. Этот больной — болезнь сильно состарила его, и возраст на глаз определить было сложно — развлекался тем, что пугал посетительниц вроде меня криком, хрипом и визгом. Обычно действовало. Лицо у него действительно было жуткое. Но мои эмоции и реакции к тому времени уже основательно истощило собственное горе, и я не шарахалась от кривляний соседа, только смотрела. Да и несложно было понять, что он притворяется. Скучно им, наверное, там.
Меня больше занимала эта женщина. По ее простым, бесхитростным движениям, по разговору было видно, что она любит его, и любви этой много лет, и она так же просто, без бунта приняла его болезнь, как сейчас подставляет руку под валящиеся у него изо рта куски бутерброда. Она приносила ему в Новый год бутерброды с красной икрой, которые вряд ли позволяла себе. Она умывала его перекошенное лицо крещенской водой во время припадка. И я постепенно понимала, что значит любовь. Совсем не так, как в литературе. Или так, но я раньше не понимала?
С тех пор любовь для меня видоизменилась. Это не «Весна» Боттичелли. Любовь — толстая тётка в психушке, которая терпеливо кормит перекошенного сумасшедшего, гладит его страшное лицо, балует бутербродами с икрой. Любовь — лысая старушка в тюремной очереди, едва волочащая тележку на колесиках, сующая передачу в окошко. Любовь — дядька в скрепленных синенькой изолентой очках, который бинтует ноги расплывшейся жене. Да, и у меня в жизни была любовь, и мне читали стихи над озером, но что, Господи, что из этого вышло? Эта любовь ничего не создала, остались больницы, похороны, работа, моя убогая пустая комната с ее молчанием, работа, работа, работа. И надо учиться любить и ценить это всё, и я учусь.
ВХОДЯЩИЕ. Алёна ИванехаСлишком гордый. Не хочет быть больным. Не хочет признавать, что болен. Ездили к нему с матерью — от всего открещивается, нет, говорит, никакого болезненного состояния, отрицает «голоса» и прочие вещи, которые описывал в своих записях (мать недавно нашла их). Нам говорил, что занавешивает шторы, так как за ним следили из окон напротив, а врачу — что ему надоел вид из окна (и вправду унылый). И так во всём. Иногда мне хочется заорать ему в лицо: если ты сию же минуту не скажешь, что да, ты болен, и не будешь лечиться, я просто вычеркну тебя из своей жизни. Можно и не орать, просто поставить такой ультиматум — или нормально лечишься, или прощай.
Еще один серьезный перелом — я больше не хочу жить с ним. Я, наверное, разлюбила его. Ничего не могу поделать. Слишком ясно понимаю: он мне по жизни не помощник, только обуза. Да, я всегда буду о нем заботиться, но жить только им больше не хочу. Даже при самом благоприятном исходе он всегда будет занят собой одним. А у меня простой выбор: рожать одной, пока могут помочь мама с папой, или искать себе другого мужа. Первый вариант, вероятно, достойный, но невероятно тяжелый. Выдержу ли? Родители немолодые, я сама не венец здоровья и добродетели, не окажемся ли мы все вместе за бортом нормальной человеческой жизни? И тот маленький человек, который родится (если родится), он ведь из-за меня останется обделенным на всю жизнь. Не знаю, не знаю. «Искать мужика»? Тут я не мастерица.
Я до сих пор не осознала, что теперешний Дмитрий — совершенно другой человек, не тот, с кем я познакомилась тогда. А ведь Женя еще при первом приступе сказал, что это уже не Дима, что Дима «вышел покурить». С тех пор он, видимо, не вернулся. Ни живой, ни мёртвый. Но, хотя прежнего, здорового Димы давно нет, я всё еще надеюсь, что это не конец. Со всех сторон мрачные прогнозы. И я горюю о собственных разбитых надеждах, и о его бессмысленных мучениях, машу кулаками небу. Надо учиться жить, когда жить невозможно, сказала его мать, повторяя за кем-то из великих. Я еще не научилась, не смирилась. Я не знаю, как жить в таком мире.
ВХОДЯЩИЕ. Алёна ИванехаДмитрия снова положили в больницу. Я положила. В этот раз все было легче, формальнее и циничнее. После того, как он выпил пачку феназепама и спал удивительно долго, так что я просто не сразу сообразила… И когда открыла пачку и увидела… И когда боялась, что мы не довезем его — были пробки. И боялась, что он захлебнется в собственной рвоте, когда ему промывали желудок… После всего этого я решила быть твердой сегодня.