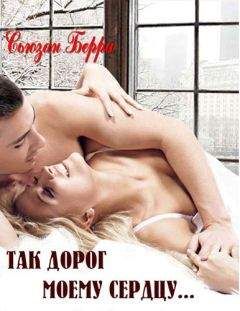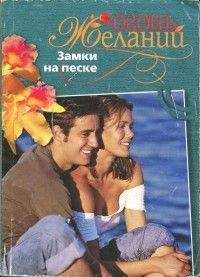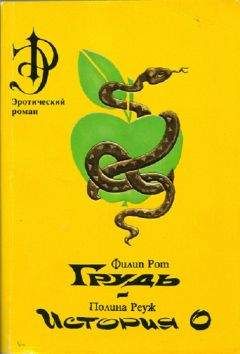Йозеф Шкворецкий - Семисвечник
На несчастного Моше обрушился град снежков, и он, подпрыгивая и смешно, боком вперед, хромая, бежал. Во фраке, без цилиндра, через все местечко, до самой мраморной лестницы своей загородной виллы.
Это и стало его концом. Он прекратил не только посещать балы, но и свои поездки в Прагу, и по местечку быстро разнеслась весть, что он тяжело болен.
– Третья стадия, – сказал за обедом матери мой отец, и я уже знал, что это такое, хотя и не очень определенно.
Но у местечка в то лето на языках была уже другая тема. Арноштик Лем, угреватый наследник крупного торгового дома, попросил руки Мифинки, но получил отказ. Говорили, что главной причиной была вера и решающее слово при сватовстве произнес Арно Мясолёбл. Мочилёбл, который на своей вонючей бричке спешно прибыл в местечко, был якобы не против, но хриплый невыразительный голос маленького селянина не мог соперничать с Моисеевыми аргументами достопочтенного мясника. Рассказывали также, что папа Лем очень рассердился и высказался в том смысле, что, очевидно, кровосмесительство пахнет для этих вонючих евреев так же приятно, как и моча, в которой перед шабесом купается его племянник, и что он, коммерсант Лем, благодарит Бога за то, что Арноштик не попал в сети этой семьи, где один уже разлагается от разврата, а остальные вот-вот дойдут до кровосмешения…
Действительно ли так беззастенчиво высказался папа Лем или красочность его высказывания следует приписать фантазии местечковых сплетниц, история умалчивает. Несомненным было лишь то, что Арноштик перестал быть гостем на Мифинкиных садовых праздниках, а сама Мифинка ходила какое-то время по городку с заплаканными глазами.
А тем временем старый Моше Сучилёбл разлагался от разврата.
Около десяти часов вечера из его комнаты начинали раздаваться жалобные причитания и стоны, которые доносились через выходящее в сад окно ко мне в спальню, даже если оно было закрыто. Сначала звучал протяжный, долгий вой, который затем распадался на отчаянное «ай-йаай-йай-йай-ай!», потом два, три, четыре часа длилось монотонное причитание – иной раз до самого рассвета, когда он, обессиленный, затихал с почти детскими стонами. Но до последнего момента каждую минуту, снова и снова, из него вырывалось болезненное и отчаянное «ай-йаай-йаай-йай!»
Моя светловолосая сестричка приходила к завтраку с кругами под глазами, жалуясь, что ночью ни на минуту не может заснуть. Это ужасно, жаловалась она, почему этого человека не отвезут куда-нибудь; но Моше Сучилёбл оставался и продолжал разлагаться в своем мраморном доме. Где-то в конце второй недели я вдруг ночью услышал из ее комнаты истерический плач. Потом – стук двери, и из коридора донесся голос: сестричка рыдала, заикаясь от ужаса; затем я услышал глухие голоса отца и матери – они ее успокаивали, – и снова истерические судорожные всхлипы.
Но Моше Сучилёбла никуда не увезли. Так и дострадал он среди своих розовых картин до позорной смерти. Тянулось это почти полгода, и каждую ночь звучали монотонные, все более пронзительные стенания – над кронами садовых деревьев, сквозь запах черешневого цветения, в легком дуновении августовской ночи. А потом, когда в саду начало пахнуть яблоками, его крик раздался в последний раз – самый отчаянный и болезненный, потом он затих и исчез.
«Перст Божий», – шептали местечковые дамы, однако в извещении, которое появилось на следующий день после смерти Моше Сучилёбла, о нем говорилось как о дорогом брате и дяде, который усоп после долгих страданий и будет похоронен на новом еврейском кладбище в К.
Были торжественные похороны, и на свежую могилу поставили деревянную табличку с непривычным именем Моисей Лёбл, которую должен был сменить большой мраморный памятник. Но этому уже не суждено было случиться…
Потому что в один из летних дней следующего года сняли вывеску над мясной лавкой Арно Мясолёбла и заменили ее другой, с именем арийца Гюнеке. В один из летних дней Роберт Мочилёбл перебрался в виллу своего брата, потому что имение перестало быть его собственностью. В другой из дней обе семьи оставили виллу и перебрались в старую школу на Еврейской улице. В вилле братьев Лёблов, в покоях с розовыми актами в золотых рамах, обосновался герр регирунгскомиссар[22] местечка Хорст Германн Кюль.
И в это же время произошло странное второе сватовство Арноштика к Мифинке.
Я был свидетелем лишь его несчастливого завершения и бесславного ухода панов Мочилёбла и Мясолёбла через сад Лемов. Возвращаясь на велосипеде с репетиции недавно организованного джаз-бэнда, я видел, как разъяренный красный пан Лем кричал им вслед:
– Теперь вам и христианин хорош, да? Жиды вонючие!
Оба еврея с поднятыми воротниками темных пальто спешили прочь, а пан Лем повернулся и затолкнул внутрь ошеломленного Арноштика, который вместе с ним вышел на веранду.
После этого Арноштик был отослан на практику к деловому партнеру пана Лема в Брно.
Рассказывают, что сразу после этого события пана Лема навестил преподобный пан Мелоун, и служанка в кухне слышала злобный голос своего хозяина – он рявкал на священника:
– И вы, преподобный, вы влезли в это дело?
Потом спокойный, но явно напряженный голос священника:
– Правильность или неправильность записи в брачном свидетельстве не докажет никто. Это можно было сделать.
И в ответ визгливый крик хозяина дома:
– Но ведь это обман, господин священник! Обман!
И потом гневный голос почтенного пана Мелоуна:
– Обман, мой дорогой, может в определенных обстоятельствах способствовать христианскому милосердию!
Об этом говорили шепотом. Человеческая фантазия, конечно, безгранична. Но шептались о сговоре, который должен был спасти Мифинку от той судьбы, которая перед нею уже ясно вырисовывалась; о сговоре, подобном тому, что сохранил жизнь толстому Бенну Огренцугу, который – возможно, в последний момент – взял в жены арийку Анку Воценилову, служанку в доме Огренцугов. Но участники этого сговора, если вообще таковой был, уже либо мертвы, как мертвы свидетели Кукушки, либо сидят в тюрьме как коллаборационисты, либо хранят тайну исповеди, так что правду уже никто не узнает.
Несомненно только то, что семейство Лёблов, – или, по крайней мере, один из этого семейства, – дико отомстило за добрососедское отношение, о чем в К. долго вспоминали с удовлетворением.
Незадолго до отправки транспорта в Терезин Боб Ломовик подкараулил ночью пана Лема, когда пан советник возвращался с собрания «Народной солидарности», напал на него в темной аллее недалеко от виллы и обошелся с ним так же, как в свое время с Рандольфи, чемпионом Европы, и с Панохой, чемпионом мира; только здесь не было никакого арбитра, который остановил бы беснующегося борца, так что почтенного обывателя в ту же ночь доставили в больницу.
А еще через день Боб Ломовик отправился вместе с двумя братьями Лёблами, с Мифинкой и с двумя старыми еврейскими матерями в Терезин, а оттуда – еще восточнее, где дымились разбитые военные машины и трубы крематория и где его пепел поглотила молчащая земля.
Такова история Моше Сучилёбла, его братьев Арно и Роберта, Боба Ломовика и жестокого убийства, что лежит на совести почтенного коммерсанта и могло быть предотвращено.
Но милосердия было тогда так отчаянно мало.
Она поднималась по лестнице, мимо двери, за которой сейчас жил портной, тихо и с опасением, как бы тот не вышел.
– Я казалась себе чужаком, – рассказывала Ребекка, – человеком, в котором все видят нахальную еврейскую девчонку, позволившую себе вернуться, когда все порядочные евреи отправились в газовую камеру.
Она прошмыгнула тогда мимо знакомой двери, за которой было тихо; по лестнице этого старого доходного дома с узорными чугунными перилами поднялась на четвертый этаж, где на медной табличке значилось: «Карел Ружичка, уполномоченный банка „Юнион“». Она долго не решалась нажать пожелтевшую кнопку на медной пластинке. Стояла в платье из мешковины и глядела на эту дверь, не понимая, что кашель, который напал на нее, слышен людям в квартире. Вся ее уверенность в том, что именно эти Ружички ей нужны, куда-то делась. Тогда Ребекка не позаботилась уточнить, а сейчас ей вдруг пришло в голову, не лучше ли просто и определенно сказать: пожалуйста, помогите мне, у меня нет одежды, нет ни родителей, ни родственников, мне негде спать, я хочу есть, у меня печаль на сердце, и в желудке, и в ногах после стольких километров, – пожалуйста…
– Но почему с этим к Ружичкам? Раньше я с ними, пожалуй, и словом не перебросилась. Знаешь, Дэнни, я не сентиментальна, но в ту минуту мне ужасно хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел меня, погладил, обнял, уложил в чистую постель. Это до сих пор осталось. Идиотизм какой-то… Но разве я на все это не имела права? Глупость, конечно, но ведь хочется иногда потешить себя такой глупостью. Мама умерла, когда мне было три года. Потом у меня появилась мачеха, арийка. Батя никогда ласковым не был. Он вообще был страшный эгоист. Да и с братом мы всегда ссорились. А эсэсовцы – сам знаешь. Никто в жизни никогда меня не приласкал. В Терезине меня взял к себе некий Фрицек Бонди. Но там ничего серьезного и быть не мог/го. Ни любви, ни ласки. Все это называлось последними радостями жизни. Такой же идиотизм, как в радости последнего желания приговоренного: что бы он хотел съесть перед казнью. Увидеть бы того, для кого такой мелшпайс мог быть радостью. Идиотизм! В жизни – как в боксе: надо уметь и держать удар, и наносить его. И мне, пожалуй, давно стоило этому научиться. Но все равно всегда хочется, чтобы кто-то был со мной нежным, со мной, еврейкой, которая виновата лишь в том, что еврейка. Чтобы кто-то гладил меня, спал со мной. Дэнни, – сказала она вдруг, – давай в субботу поедем куда-нибудь, а?