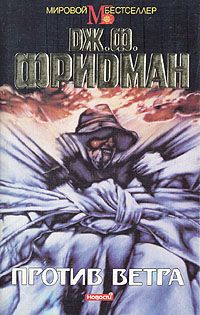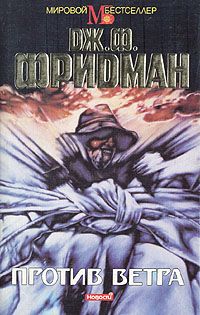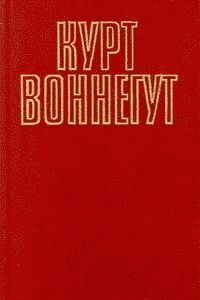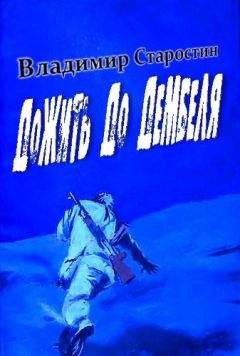Курт Воннегут-мл - Синяя Борода
На всю планету вполне достаточно теперь иметь по десятку наилучших представителей в каждой области человеческой одаренности. А умеренно талантливый человек задавливает в себе свой талант до тех пор, пока, фигурально говоря, не напьется на свадьбе и не начнет отбивать чечетку на столе, в манере Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Для таких людей мы придумали особое слово. Мы говорим, что они выделываются.
И какова же награда этим людям? На следующее утро они слышат от нас: «Ну и надрался же ты вчера!»
* * *
Так что, став подмастерьем у Дэна Грегори, я вышел на бой с чемпионом мира в области массового искусства. Бессчетное множество одаренных молодых художников, поглядев на его иллюстрации, бросили рисование с мыслью: «Боже мой, мне никогда не удастся создать такую красоту».
Я осознаю теперь свое тогдашнее нахальство. Еще когда я только начал копировать Грегори, уже тогда я думал: «Если я буду много работать, то, черт возьми, и я смогу точно так же».
* * *
Так вот, я стоял на главном вокзале, а вокруг меня все обнимались и целовались – со всеми, как мне тогда казалось. Я не ожидал, что Дэн Грегори прибудет встретить меня лично, но почему не было Мэрили?
Знала ли она, как я выгляжу? Без сомнения. Я послал ей множество автопортретов, и несколько снимков, сделанных моей матерью.
Отец, кстати, не прикасался к фотоаппарату. Он говорил, что камера сохраняет лишь ногти, волосы и ошметки кожи, сброшенные давно ушедшими людьми. Я полагаю, он считал фотографии жалкой заменой убитым во время резни.
Но даже если бы Мэрили и не видела ни одного из тех рисунков и снимков, меня все равно не составило бы труда вычислить. Моя кожа была намного темнее, чем у всех остальных пассажиров спальных вагонов. А человеку с кожей еще темнее, чем моя, по обычаям того времени вход в спальный вагон и вовсе воспрещался[31] – как и почти во все гостиницы, театры и рестораны.
* * *
А был ли я уверен, что узнаю на вокзале Мэрили? Как ни смешно, нет. Она за годы нашей переписки выслала мне девять своих фотографий, которые переплетены теперь вместе с письмами. Снимки сделал сам Дэн Грегори, при помощи наилучшей фототехники. При желании он вполне мог бы стать успешным фотографом. Но на каждом Грегори одел ее в костюм и придал ей позу персонажа из какой-нибудь книги, к которой он делал иллюстрации – императрицы Жозефины, модницы из произведений Фицджеральда, пещерной жительницы, жены первопоселенца, русалки с рыбьим хвостом, и так далее. И тогда, и сейчас было сложно поверить, что на снимках одна и та же женщина, а не девять разных.
На платформе было полно красавиц. Скорый «ХХ век» был тогда самым шикарным из всех поездов[32]. Я ловил глаза женщин, одной за другой, в надежде на магниевую вспышку узнавания в их головах. Боюсь, что все, чего я добился – это утвердить каждую из них во мнении, что представители темных рас и в самом деле до предела похотливы, и ушли от горилл и шимпанзе не так далеко, как белые люди.
* * *
Полли Мэдисон, она же Цирцея Берман, только что зашла и ушла, прочитав предварительно лист, заправленный в пишущую машинку, и не спросив, не возражаю ли я. А я очень даже возражаю!
– Я не закончил предложение! – сказал я.
– Все мы не закончили предложение. Мне стало интересно, не ползут ли у тебя по коже мурашки, когда ты пишешь о таком далеком прошлом и о людях в нем.
– Да нет, не так, чтобы заметно, – ответил я. – Я успел разозлиться на много разных вещей, о которых мне не приходилось вспоминать годами, но это, пожалуй, все. Мурашки? Нет, не ползут.
– А ты задумайся. Ты ведь знаешь, как много всего страшного произойдет с ними со всеми, в том числе и с тобой. Неужели тебе не хотелось бы прыгнуть в машину времени, попасть в прошлое и предупредить их?
И она обрисовала мне странную картину на лос-анджелесском вокзале в далеком 1933 году:
– Армянский подросток, с фибровым чемоданом и папкой подмышкой, прощается со своим отцом. Он отправляется искать счастья за две с половиной тысячи миль, в большом городе. К нему подваливает старик с повязкой через глаз, который только что прибыл в машине времени из 1987 года. И что же старик говорит ему?
– Надо подумать, – сказал я.
Потом я покачал головой:
– Ничего не говорит. Машина времени отменяется.
– Совсем ничего?
И вот что я ей сказал:
– Мне хотелось бы, чтобы он как можно дольше продолжал верить в то, что сможет стать великим художником и хорошим отцом.
* * *
Прошло всего полчаса. Она только что снова всовывалась ко мне в комнату.
– Я тут придумала одну вещь, которую ты мог бы где-нибудь вставить, – объявила она. – Мне она пришла в голову, когда я вспоминала то, что ты писал раньше, как твой отец начал делать прекрасные ковбойские сапоги, а ты смотрел ему в глаза и там внутри больше никого не было – или как твой друг Терри Китчен начал создавать лучшие свои произведения при помощи краскопульта, и ты смотрел ему в глаза и там внутри больше никого не было.
Я не выдержал. Я выключил машинку. Знаете, где я научился печатать вслепую? На курсах машинописи после войны, когда я полагал, что стану предпринимателем.
Потом я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Ирония влетает ей в одно ухо и вылетает в другое, особенно в вопросах личной жизни, но я все же сделал попытку.
– Мои уши широко открыты, – сказал я.
– Я ведь так и не рассказала тебе, что Эйб записал прямо перед смертью? – спросила она.
– Так и не рассказали, – подтвердил я.
– Я как раз размышляла над этим, в первый день – когда ты пришел на пляж.
– Понятно, – сказал я.
В последние дни перед смертью ее муж-нейрохирург не мог уже разговаривать. Все, что он мог – это писать короткие реплики левой рукой, хотя всю жизнь он был правшой. Из всего тела только левая рука его еще как-то слушалась.
И вот как, по словам Цирцеи, выглядело его последнее сообщение: «Я чинил радио».
– Или его собственный поврежденный мозг принимал это за буквальную истину, – сказала она, – или же он пришел к выводу, что мозги тех, кого он оперировал, представляли собой всего лишь приемники, получавшие сигналы из какого-то совершенно другого места. Я понятно объясняю?
– Вполне.
– Из маленькой коробочки под названием радио вылетает музыка, – сказала она, подошла ко мне и постучала костяшками пальцев по моей лысине, как стучат иногда по радиоприемнику, – но это же не значит, что внутри нее сидит оркестр.
– Так при чем здесь мой отец и Терри Китчен?
– Может быть, когда они вдруг занялись тем, чего никогда раньше не делали, и так сильно изменились – может быть, они просто начали принимать другую станцию, по которой передавали совсем другие понятия о том, что им говорить и что делать.
* * *
Я пошел и поделился этой теорией, «люди как всего лишь радиоприемники», с Полом Шлезингером, и он немного покрутил ее в голове.
– Так значит, на кладбище «Зеленый ручей» закопаны сдохшие приемники, – размышлял он, – в то время как передатчики, на волну которых они были настроены, так и продолжают вещать.
– Вроде того, – сказал я.
Он сказал, что сам он в таком случае последние двадцать лет принимает только эфирный шум, да иногда – что-то, похожее на прогноз погоды на каком-то иностранном языке, в котором он не может разобрать ни единого слова. Еще он сказал, что ближе к концу его супружеской жизни с Барбирой Менкен, актрисой, она начала вести себя так, будто «носила стереонаушники, в которых давали ”Увертюру 1812 года” [33]».
– Это было как раз в то время, когда из милашки на сцене, на которую всем было исключительно приятно смотреть, она начала превращаться в настоящую актрису. Она даже перестала быть Барбарой. Вдруг, ни с того ни с сего, ее стали звать Бар-би-ра[34]!
Он сказал, что впервые узнал об изменении в ее имени во время слушания дела о разводе. Ее адвокат назвал ее «Барбира», и продиктовал судебной стенографистке это имя по буквам.
Потом в коридоре суда Шлезингер спросил ее:
– А куда делась Барбара?
Она ответила, что Барбара умерла!
– И за каким чертом тогда мы выбросили столько денег на адвокатов? – поинтересовался Шлезингер.
* * *
Я сказал, что нечто похожее я наблюдал, когда Терри Китчен впервые забавлялся с краскопультом, обстреливая красной нитроэмалью кусок старого строительного картона, который он прислонил к картофельному амбару. Вдруг, ни с того ни с сего, и он тоже стал человеком, у которого в наушниках играла замечательная радиостанция, мне совершенно недоступная.