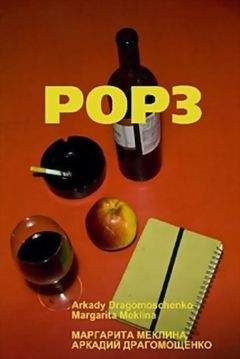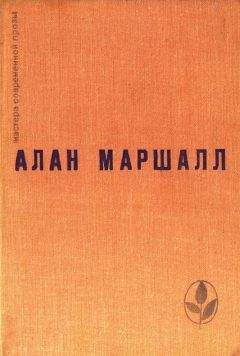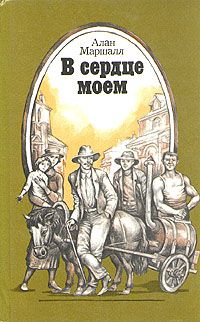Алан Маршалл - Я умею прыгать через лужи
— Я, кажется, немного пошевелил пальцами ноги.
Чем больше меня предостерегали, что нельзя двигаться, тем сильней мне хотелось это сделать, главным образом для того, чтобы, выяснить, что после этого произойдет. Я чувствовал, что как только проверю, могу ли двигаться, то удовольствуюсь одним сознанием этого затем уже буду лежать спокойно.
— Нельзя шевелить даже пальцами, — сказала сиделка.
— Больше не буду, — обещал я.
Меня продержали на операционном столе до обеда, затем осторожно подкатили к моей кровати, где была установлена стальная рама, поддерживавшая одеяло высоко над моими ногами и мешавшая мне видеть Мика который лежал напротив.
Это был день посещений. В палату один за другим входили родственники и друзья больных, нагруженные пакетами. Смущенные присутствием стольких больных они торопливо пробирались мимо кроватей, не спуская взгляда с тех, кого пришли навестить. Последние той чувствовали себя неловко. Они глядели в сторону, дела вид, что не замечают своих посетителей, пока те не оказывались у самой кровати.
Но и у тех больных, которые не имели друзей или родственников, тоже не было недостатка в посетителях. К ним подходили то молодая девушка из «Армии спасения», то священник или проповедник и, конечно, неизменная мисс Форбс.
Каждый приемный день она приходила нагруженная цветами, душеспасительными книжечками и сластями. Ей было, вероятно, лет семьдесят; она ходила с трудом, опираясь на палку. Постукивая этой палкой по кроватям больных, не обращавших на нее внимания, она говорила:
— Ну, молодой человек, надеюсь, вы выполняете предписания врача. Только так и можно выздороветь. Вот вам пирожки с коринкой. Если их хорошо прожевать, они не вызовут несварения желудка. Пищу всегда надо хорошо разжевывать.
Мне она каждый раз давала леденец.
— Они очищают грудь, — говорила она. Теперь она, как обычно, остановилась у меня в ногах и ласково сказала:
— Сегодня тебе сделали операцию, не так ли? Ну, доктора знают, что делают, и я уверена, что все будет хорошо. Ну-ну, будь умницей, будь умницей…
Моя нога болела, и мне было очень тоскливо. Я заплакал.
Она встревожилась, быстро подошла к моему изголовью и растерянно остановилась: ей хотелось меня успокоить, но она не знала, как это сделать.
— Бог поможет тебе перенести эти страдания, — произнесла она убежденно. — Вот в этом ты найдешь утешение.
Она вынула из своей сумки несколько книжечек и дала мне одну.
— На, почитай, будь умницей.
Она дотронулась до моей руки и все с тем же растерянным видом пошла дальше, несколько раз оглянувшись на меня.
Я принялся рассматривать книжечку, которую держал в руке, — мне все казалось, что в ней скрыто какое-то волшебство, какой-то знак господень, божественное, откровение, благодаря которому я восстану с одра, как Лазарь, и начну ходить.
Книжечка была озаглавлена «Отчего вы печалуетесь?» и начиналась словами: «Если в жизни своей вы чуждаетесь бога, печаль ваша не напрасна. Мысль о смерти и о грядущем суде не напрасно печалит вас. Если это так, то дай бог, чтобы ваша печаль все возрастала, пока наконец вы не найдете успокоения в Иисусе».
Я ничего не понял. Я положил книжечку и продолжал тихо плакать.
— Как ты себя чувствуешь, Алан? — спросил Ангус.
— Мне плохо, — сказал я и немного погодя добавил: — Нога болит.
— Это скоро пройдет, — ответил он, чтобы успокоить меня.
Но боль не проходила.
Когда я лежал на операционном столе и гипс на моей правой ноге и бедрах был еще влажным и мягким, короткая судорога, вероятно, отогнула мой большой палец, а у парализованных мышц не хватало сил выпрямить его. Непроизвольным движением бедра я также сдвинул внутреннюю гипсовую повязку, и на ней образовался выступ, который, словно тупой нож, стал давить на бедро. В последующие две недели он постепенно все больше врезался в тело, пока не дошел до кости.
Боль от загнутого пальца не прекращалась ни на минуту, но боль в бедре казалась чуть легче, когда я изгибался и лежал смирно. Даже в краткие промежутки между приступами боли, когда я забывался в дремоте, меня посещали сны, которые были полны мук и страданий.
Когда я рассказал доктору Робертсону о мучившей меня боли, он сдвинул брови и задумался, поглядывая на меня:
— Ты уверен, что болит именно палец?
— Да. Все время, — отвечал я. — Не перестает ни на минуту.
— Это, наверно, колено, — говорил он старшей сестре. — А ему кажется, что палец. — Ну, а бедро тоже все время болит? — снова обратился он ко мне.
— Оно болит, когда я двигаюсь. Когда я лежу спокойно, боли нет.
Он потрогал гипс над моим бедром.
— Больно?
— Ой! — крикнул я, пытаясь отодвинуться от него. — Ой, да…
— Гм… — пробормотал он.
Через неделю после операции злость, которая помогала мне переносить эти муки, уступила место отчаянию; даже страх, что меня сочтут маменькиным сынком, перестал меня сдерживать; я плакал все чаще и чаще. Плакал молча, уставившись широко раскрытыми глазами сквозь застилавшие их слезы в высокий белый потолок надо мной. Мне хотелось умереть, и в смерти я видел не страшное исчезновение жизни, а всего лишь сон без боли. Вновь и вновь я повторял про себя в каком-то отрывистом ритме: «Я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть».
Через несколько дней я обнаружил, что двигая головой из стороны в сторону в такт повторяемым словам, могу заставить себя забыть про боль. Мотая головой, я не закрывал глаза, и белый потолок становился туманным и расплывался, а кровать, на которой я лежал, отрывалась от пола и куда-то летела.
Голова нестерпимо кружилась, и я проносился по огромным кривым сквозь облачное пространство, сквозь свет и тьму, уже не чувствуя боли, но испытывая сильную тошноту.
Я оставался там, пока воля, заставлявшая меня делать движения головой, не ослабевала, и тогда я медленно возвращался к мерцающим, качающимся бесформенным теням, которые медленно и постепенно принимали очертания кроватей, окон и стен палаты.
Обычно я прибегал к этому способу утоления боли ночью, но если боль становилась нестерпимой, — и днем, когда никого из сиделок не было в палате.
Ангус, наверно, заметил, как я дергаю головой из стороны в сторону, потому что однажды, когда я только начал это делать, он меня спросил:
— Зачем ты это делаешь, Алан?
— Просто так, — ответил я.
— Послушай, — сказал он мне, — мы же приятели. Зачем ты двигаешь головой? Тебе больно?
— От этого боль проходит.
— А! Вот в чем дело! — воскликнул он. — Каким же образом она проходит?
— Я ничего не чувствую. Голова кружится — и все, — объяснил я.
Он больше не сказал ни слова, но немного погодя я услышал, как он говорил сиделке Конрад, что нужно что-то предпринять.
— Он терпеливый парнишка, — говорил Ангус. — Если бы ему не было плохо, он не стал бы этого делать.
Вечером сестра сделала мне укол, и я спал всю ночь, но на следующий день боль продолжалась; мне дали порошок аспирина, велели лежать спокойно и стараться заснуть.
Я выждал, пока сиделка вышла из палаты, и начал снова мотать головой. Но она ожидала этого и все время наблюдала за мной через стеклянную дверь.
Ее звали сиделка Фриборн, и все ее терпеть не могли. Она была исполнительной и умелой, но делала только то, что полагалось, и ничего больше.
— Я не прислуга, — сказала она одному больному, когда тот попросил ее передать мне журнал.
Если к ней обращались с какой-нибудь просьбой, которая могла задержать ее хоть на минуту, она отвечала:
— Разве вы не видите, что я занята?
Она быстро вернулась в палату.
— Несносный мальчишка! — сказала она резко. — Сейчас же прекрати это! Если еще раз вздумаешь трясти головой, я скажу доктору, и он тебе задаст. Ты не должен этого делать. А теперь лежи спокойно. Я послежу, как ты себя ведешь.
И крупными шагами она направилась к двери, плотно сжав губы. У порога она еще раз оглянулась на меня:
— Запомни, если я тебя еще раз застану за этим занятием, тебе несдобровать!
Ангус проводил ее сердитым взглядом.
— Слыхал? — спросил он Мика. — А еще сиделка! Подумать только! Черт знает что…
— Она, — Мик презрительно махнул рукой, — она сказала мне, что я болен симулянитом. Я ей покажу симулянит. Если она еще раз меня заденет, я найду что ей ответить, — вот увидишь. А ты, Алан, — крикнул он мне, — не обращай на нее внимания!
У меня началось местное заражение в бедре — там, где гипс врезался в тело, — и через несколько дней я почувствовал, что где-то на ноге лопнул нарыв. Тупая боль в пальце в этот день была почти невыносима, а тут еще прибавилось жжение в бедре… Я начал всхлипывать беспомощно и устало. А потом заметил, что Ангус с беспокойством смотрит на меня. Я приподнялся на локте и взглянул на него, и в моем взгляде он, должно быть, прочел овладевшее мной отчаяние, потому что на его лице внезапно появилось выражение тревоги.