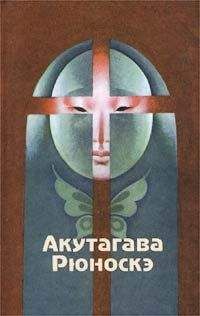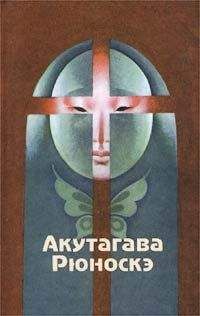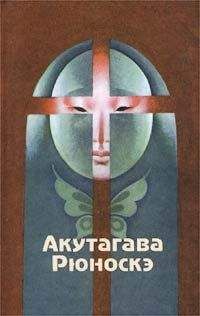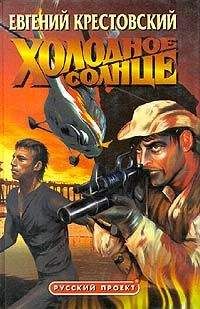Мария Галина - Медведки
Я машинально переправил “сульфаниломид” на “сульфаниламид”, а лишние кавычки убирать не стал, папа наверняка будет возражать. Кавычки для него – что-то вроде частокола, за которым прячется его литературная робость.
Еще я отметил, что мой папа стесняется того, что его папа не воевал. Наверное, в детстве, особенно в школе, где принято было гордиться воевавшими родственниками, он чувствовал себя ущербным.
“В пять лет я, если так можно выразиться, „вернулся на родину”, которую покинул в материнской утробе”.
Опять “которую”… Но что-то в этой фразе есть.
Что папа читал в детстве? Кто был его кумиром? В какую книжку он бы вписался? Куда мне пришлось бы его вставить?
Что-то такое, с путешествиями и приключениями? Никакой подростковой любви, никакого секса, только путешествия и приключения? Война? Тайная война? Папа – разведчик, что-то вроде Штирлица, боец невидимого фронта? Майор Пронин, разоблачающий шпиона? Скорее, последнее – не майор Пронин, его юный добровольный помощник, который по поручению старшего товарища следит за подозрительным человеком, который… тьфу ты, типично папин стиль. Значит, я на верном пути.
Он, похоже, хотел принести пользу Родине – кортик, бронзовая птица, сын полка… Хотел совершить подвиг – пускай незаметный, пускай тайный, чтобы об этом знал только он и несколько избранных. Ему бы хватило.
А я-то удивлялся, почему папа никогда не диссидентствовал. Так, поругивал начальство и правительство, но даже самиздат домой не таскал.
“Навсегда запомнил наше возвращение домой – мама, сойдя на станции за кипятком, чуть не отстала от поезда, и это было для меня, совсем еще маленького, серьезным потрясением…”
Почему он позволил себе так быстро состариться? Почему так и не освоил компьютер? Многие его сверстники освоили.
Сидел бы сейчас папа в “Живом Журнале”. Или в “Одноклассниках”. Ругал бы нынешние власти.
Все лучше, чем говорящие головы.
Он писал крупным почерком, как обычно пишут плохо видящие люди, и я управился быстрее, чем ожидал. Впрочем, он продвинулся недалеко: только до того торжественного момента, когда его принимали в пионеры.
Интересно, что он напишет о смерти Сталина? Он же был уже подростком, тинейджером, должен помнить, как по радио объявляли и люди плакали.
Я распечатал текст четырнадцатым кеглем, чтобы ему было удобнее читать. Все равно оказалось совсем немного – пятнадцать страниц.
Сложил в папку (я купил ему хорошую черную папку, правда без завязок), папку положил в сумку – чтобы не забыть. И услышал за спиной шорох.
Я прекратил копаться в сумке и обернулся.
Звуки, понятное дело, тут же стихли.
На подоконнике лежал гладкий плоский камень, который я принес с моря, так что я взял камень, который удобно лег в руку (тьфу ты, опять “который”!), и на цыпочках боком двинулся в обход комнаты.
Шорох вроде слышался со стороны диванчика – я свободной рукой ухватил диван за спинку и рывком подвинул его. Понятное дело, там ничего не было, никакой горки трухи и опилок. И норы тоже не было.
Когда-нибудь они нас завоюют, потому что они умнее нас.
Заиграл Морриконе. И одновременно раздался звонок в дверь.
В сутках двадцать четыре часа. Ладно, восемь сбрасываем на ночь. Остается шестнадцать. В часе шестьдесят минут. Умножаем на шестнадцать. Сколько это будет? Тем не менее телефон звонит именно в ту минуту, когда надо срочно делать что-то еще. Если есть какой-то небесный диспетчер, у него дурацкое чувство юмора.
В дверях стоял сосед Леонид Ильич.
Я сказал “здрасте”, но он посмотрел на меня странно, и я сообразил, что по-прежнему сжимаю в руке камень.
Телефон надрывался.
– Сейчас, – сказал я, положил камень на стол и стал рыться в карманах куртки. Телефон, оказывается, был в наружном кармане сумки. Не помню, чтобы я его туда клал.
– Я нашел прадедушку, – сказал Сметанкин, – того, который в Тибет.
– Отлично.
– Искал и нашел. Все как вы сказали.
– Отлично, – повторил я, – давайте завтра, а? В одиннадцать вас устроит?
– А пораньше нельзя? – раздраженно спросил Сметанкин. Ему не терпелось показать прадедушку.
– Хорошо, – сказал я покорно, – в десять.
Надо будет поставить будильник.
– Извините, – сказал я Леониду Ильичу, – это по работе.
– Я вижу. – Он покосился на камень. – Я вам не помешал?
В руках у него был пластиковый пакет в полосочку, в такие паковали продукты в мини-маркете за углом.
– Нет, – сказал я, – нет, что вы. Мне показалось, крыса. Я и… Что делать, если крыса?
– Завести кошку. Тут много бесхозных кошек. На дачах после сезона всегда много кошек… Просто выйдите и скажите “кис-кис-кис”. Она будет стараться, они всегда стараются, приблудные.
– Я тут временно, – сказал я честно, – куда ее потом?
– Мы все на этой земле временно. Ну не хотите кошку, вызовите крысоловов. Дератизаторов.
– Чтобы у меня по всему дому валялась ядовитая приманка?
– Это специальный яд, – пояснил он, – только для крыс. Вроде бы у них нарушается свертываемость крови. Они умирают от внутреннего кровотечения.
Я представил крысу в своей норе, умирающую от внутреннего кровотечения.
– Может, просто показалось.
– Не буду вас отвлекать, – он стал рыться в пакете, – но поскольку я ваш должник… сначала я хотел купить гномика. Такого же. Но потом решил, что лучше пусть будут просто свечи. Тем более гномика все равно не было. Были медвежата.
– Не стоило беспокоиться, – сказал я.
– Что вы, какое беспокойство.
Свечи были витые, нарядные, каждая упакована в целлофан.
– Производство свечей, – сказал я, – похоже, процветает.
– Ностальгия, – он пожал плечами, – атавизм. Огонь сделал человека человеком. А электричество появилось всего полтора века назад. Что такое полтора века в сравнении с историей цивилизации? Знаете, что чаще всего попадается на раскопах?
– Мусорные кучи.
– И еще кострища. Собственно, мусорные кучи, кострища и могильники и составляют память человечества. И радость археолога.
– А вы чем занимаетесь, – спросил я, чтобы проявить интерес, – кострищами или мусорными кучами?
Получилось немножко неловко. Он мне нравился, а если человек мне нравится, я чувствую себя скованно. И от напряжения бываю бестактен.
– Кострищами, – сказал он, – в своем роде. Кострами веры. Пожарами духа. Еще один неотъемлемый спутник человечества, да?
– Храмы?
– Да. Храмы. Святилища. Здесь были странные верования, вы знаете? Они поклонялись Гекате. Страшной змееногой богине. Святилища, алтари. Изображения на ритонах. Жертвенники. Ей и ее сыну.
– Сыну? Я не помню, чтобы у нее были дети. В смысле, которым поклонялись.
– Один был. – Ему было интересно рассказывать о своей работе. А я о своей не мог никому рассказать. – Вы в жизни не угадаете, как его звали.
– Как? – спросил я равнодушно.
– Ахилл.
– Ахилл вроде сын Фетиды и Пелея, нет? Мирмидонянин.
– С вами приятно разговаривать, – сказал он, – теперь мало кто способен с первой попытки выговорить слово “мирмидонянин”. Не говоря уже о том, что мало кто это слово вообще знает.
– Как же не знать? Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Он бесился, потому что военной добычей его обделили при дележке. В частности бабой. Вообще неприятный тип. Но сын Пелея, там точно сказано.
– Это позднейшая трансформация образа. Очеловечивание. Вы ведь Хоммеля не читали, нет? Захарову?
– Нет, – честно сказал я.
– Ахилл на самом деле был сыном Гекаты и богом мертвых. Да еще с морскими функциями. Ему поклонялись приморские поселения. А если учесть, что тогда почти все поселения были приморские… Старались задобрить, приносили в жертву девственниц. Особенно царской крови. Царской – это высший шик. Помните Андромеду, нубийскую принцессу? И кому ее отдали? Страшное божество, скорее всего вообще не антропоморфное.
– Чудовище?
– Да. Чудовище, выходящее из моря.
– Почти Ктулху, – сказал я.
– Кто?
– Ктулху, ну, Древний…
– А! Интернет-фольклор? Нет, этот настоящий. То есть настоящий древний. Здесь неподалеку располагался вход в Аид, ну это вы знаете. Одиссей плавал сюда, специально чтобы спуститься в Аид. А ключ от входа был у Гекаты. Она его выпускала, своего сына, а потом, когда нагуляется, звала обратно.
– Хорошо, что она больше так не делает.
– Кто вам сказал? Все эти морские змеи… Здесь еще тридцать лет назад регистрировались наблюдения морских змеев, знаете? А если это он? Выплывал, искал своих адептов… возможно, помнил, что когда-то ему приносили жертву!
Может, предложить ему чаю? Но тогда он спросит – а почему я не пью чаю. Неловко получится.
– Вы говорите так, как будто он на самом деле существует.