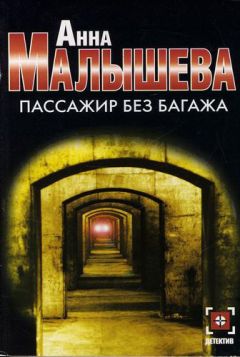Джозеф Кутзее - Молодость
Дописав рассказ, он не знает, как с ним поступить. Его совершенно не тянет показать кому-то написанное – разве что прототипу безымянной девушки. Но он утратил с ней связь, да и не узнает она себя без подсказки.
Действие рассказа происходит в Южной Африке. Он с неудовольствием понимает, что все еще пишет о ней. Он предпочел бы оставить свое южноафриканское «я» позади – как оставил саму Южную Африку. Южная Африка – плохое начало, помеха. Ничем не примечательная сельская семья, дурное образование, язык африкаанс: каждое из этих образующих целое препятствий он более или менее сумел обойти. Теперь он живет в большом мире, сам себя обеспечивает – вообще, справляется недурно, по крайней мере не терпит неудач, явственных. И напоминания о Южной Африке ему нисколько не нужны. Если завтра из Атлантики накатит приливная волна и смоет южную оконечность африканского континента, он не проронит ни слезинки. Он-то останется среди уцелевших.
Хотя рассказ, написанный им, и мелковат (о чем тут говорить?), он вовсе не плох. И все-таки в попытках напечатать его он никакого смысла не видит. Англичане рассказ не поймут. Пляж, о котором в нем говорится, они подменят своим, английским пляжем – полоской гальки с набегающей на нее мелкой волной. Они не увидят ослепительного простора песка у подножия скалистых утесов, о которые разбиваются буруны, не услышат в небе криков чаек и бакланов, сражающихся с ветром.
По-видимому, между поэзией и прозой существуют и еще кое-какие различия. В стихах действие может протекать везде и нигде: совершенно не важно, где живут одинокие жены ловцов лангустов – в Калкбае, Португалии или Мэне. А вот проза, похоже, настоятельно требует четко обозначенной обстановки.
Англию он знает пока не настолько, чтобы воссоздавать ее в прозе. Он не уверен даже в том, что сможет воссоздать уже знакомые ему кварталы Лондона – Лондона бредущей на работу толпы, холода и дождя, квартирок с лишенными штор окнами, с лампочками в сорок ватт. Предприми он такую попытку, у него, скорее всего, получится город, неотличимый от Лондона любого другого клерка– холостяка. Возможно, у него и есть собственное видение Лондона, однако никакой уникальностью оно не обладает. Быть может, в видении этом и присутствует некая напряженность, но лишь по причине его узости, а узостью этой оно обязано неведением чего бы то ни было, лежащем вне его самого. Нет, Лондоном он не овладел. Если уж кто кем и овладел, так скорее Лондон им.
Глава восьмая
Свидетельствует ли этот первый прозаический опыт о том, что меняется весь настрой его жизни? Не собирается ли он навсегда забросить поэзию? Он в этом не уверен. Однако, если он намерен заняться прозой, надо идти до конца и стать джеймсианцем. Генри Джеймс – вот пример писателя, вознесшегося над всем национальным. По сути дела, далеко не всегда ясно, где происходит то, что он описывает, – в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, – так высоко воспаряет Джеймс над механикой обыденной жизни. Его персонажам не приходится платить за жилье, они явно не имеют нужды держаться за работу, все, что им требуется, – это вести сверхъестественные по утонченности разговоры, в которых власть переходит от одного собеседника к другому шажками настолько мелкими, что они почти неуловимы, приметны лишь для хорошо натренированного взгляда. Когда же шажков набирается достаточное число, выясняется вдруг, что распределение власти между персонажами рассказа изменилось (voila!) необратимо. И все: задачу свою рассказ выполнил, можно ставить точку.
Он пробует поупражняться в манере Джеймса. Выясняется, однако, что овладеть джеймсовским стилем куда трудней, чем ему представлялось. Попытки заставить придуманных им персонажей вести сверхутонченные разговоры сродни потугам научить млекопитающих летать. Миг-другой им удается, плеща руками, держаться в воздухе. Потом они валятся вниз.
Что и говорить, Генри Джеймс намного тоньше, чем он. И все же одно только это не способно полностью объяснить его неудачу. Джеймс хочет, чтобы читатель поверил: разговор, обмен словами – только это и важно. Он готов принять кредо Джеймса, но не может, как выясняется, следовать ему, во всяком случае не в Лондоне, городе, который перемалывает его своими безжалостными зубцами, городе, который должен обучить его писательству, – а иначе зачем вообще он сюда попал?
Давным-давно, еще невинным ребенком, он верил, что единственное точное мерило – это ум, что ум позволит ему достичь всего, к чему он стремится. Учеба в университете расставила все по местам. Университет показал ему, что он далеко не самый умный, в конечном-то счете. Теперь же он окунулся в реальную жизнь, а в ней нет даже экзаменационных оценок, на которые можно было бы опереться. Похоже на то, что в реальной жизни у него хорошо получается только одно – страдать, ощущать себя несчастным. В чем-в чем, а в этом он может дать фору кому угодно. Несчастья, которые он способен навлечь на себя, а следом и вытерпеть, пределов, сдается ему, не имеют. Даже бродя по холодным улицам этого чужого города, никуда, в сущности, не направляясь, просто стараясь вымотаться настолько, что можно будет вернуться к себе и по крайней мере заснуть, он отнюдь не собирается надломиться под гнетом страданий. Несчастье – его стихия. Он в ней как дома, как рыба в воде. Отними у него несчастье, и он не будет знать, как жить дальше.
Счастье, говорит он себе, ничему научить не может. Несчастье же закаляет человека, готовит к будущему. Несчастье есть школа души. Окунувшись в воды несчастья, ты выходишь из них – на другом берегу – очищенным, сильным, готовым к вызову, который бросает тебе жизнь в искусстве.
И однако же, окунаясь в несчастье, он вовсе не ощущает себя отмытым дочиста. Напротив, все происходящее с ним походит на купание в грязной луже. Каждый новый наплыв страданий оставляет его не поумневшим и окрепшим, но отупевшим и еще более вялым. Спрашивается, как же оно работает – прославленное очищение страданием? Может быть, он недостаточно глубоко окунается в него? Может быть, следует плыть дальше – за край несчастья, в меланхолию и безумие? Он никогда не встречал человека, которого можно было б назвать сумасшедшим с достаточными на то основаниями, однако помнит Жаклин, которая «проходила», как она выражалась, «лечение» и с которой он провел, пусть с перерывами, шесть месяцев в одной комнате. И ни разу за это время в Жаклин не возгоралось божественное, живительное творческое пламя. Наоборот, она оставалась погруженной в себя, непредсказуемой, трудной в общении. Быть может, и ему должно опуститься до подобного уровня и лишь после этого он сможет стать художником. А с другой стороны, безумный или несчастный, как можешь ты писать, когда усталость сжимает, точно рука в перчатке, твой мозг и давит, давит? Или то, что он предпочитает звать усталостью, есть на деле испытание, еще одно завуалированное испытание, в котором он терпит неудачу? И вслед за усталостью придут испытания новые, и будет их столько, сколько кругов в Дантовом аду? Не есть ли усталость лишь первая из проверок, которые обязаны проходить великие мастера – Гёльдерлин и Блейк, Паунд и Элиот?
Как хочется, чтобы ему дарована была возможность воспрянуть и хоть на минуту, хоть на секунду узнать, что это такое – сгорать в священном огне искусства.
Страдание, безумие, секс – три способа призвать на свою голову священный огонь. Он опускался в пучину страданий, он свел знакомство с безумием, но что ему известно о сексе? Секс и творческий дух неизменно идут рука об руку, все так говорят, да он и сам не сомневается в этом. Будучи творцами, художники владеют тайной любви. Женщины же обладают интуитивным даром, который позволяет им различить пылающее в художнике пламя. Сами-то женщины этого священного пламени лишены (есть, впрочем, и исключения: Сафо, Эмили Бронте). Именно в поисках огня, коего им не дано, огня любви, женщины ищут общества художников и отдаются им. Предаваясь любви, художники и их любовницы вкушают – на краткий, мучительный миг – жизнь богов. И после любовных объятий художник возвращается к своим трудам обогащенным, исполненным новых сил, а женщина возвращается к своей преобразившейся жизни.
А что же он? Если ни единая женщина все еще не различила за его деревянным обличием, за его скованным угрюмством ни проблеска священного пламени, если ни одна из них не отдается ему безраздельно, если любовная близость, какой он ее знает, порождает в женщине, как и в нем самом, либо опасения, либо скуку, либо и то и другое, – означает ли это, что художник он не настоящий или что страдал он все-таки маловато, недостаточно времени провел в чистилище, распорядок коего включает и борцовские схватки безлюбого секса?
Величавое безразличие Генри Джеймса к жизни как таковой обладает для него значительной притягательностью. И все же, как он ни силится, ощутить на своем лбу благословляющее прикосновение призрачной руки Джеймса ему не удается. Джеймс принадлежит прошлому: ко времени его рождения Джеймс уже двадцать лет как лежал в могиле. А вот Джеймс Джойс был тогда еще жив, хоть и находился на волосок от смерти. Джойса он обожает, он даже может наизусть цитировать целыми кусками «Улисса». Однако для того, чтобы занять место в его пантеоне, Джойс чрезмерно пропитан Ирландией и заботами ирландцев. Эзра Паунд и Т. С. Элиот, сколь они ни дряхлы и ни окутаны мифами, живы и по сей день – один в Рапалло, другой здесь, в Лондоне. Но если он собирается забросить поэзию (или поэзия собирается забросить его), какой пример способны и далее подавать ему Паунд с Элиотом?