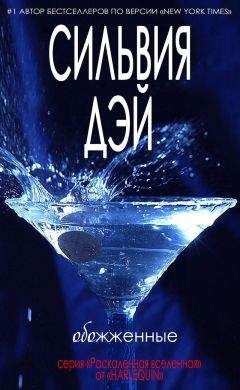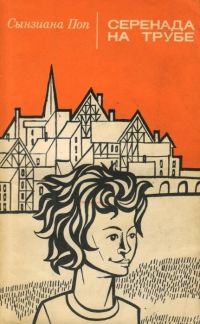Елена Скульская - Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны
— Какая вкусная! Дайте мне еще этой оранжевой крупы!
Ничего особенного вроде бы нет, да? Ну, мы в основном-то на кашах выросли. Экскаваторщику икра и покажись крупой. А только как вспомню, иногда даже плачу, ничего с собой поделать не могу.
Столько лет прошло, а он почти не изменился. Нос экскаваторщика всегда казался огромной птицей, случайно приземлившейся на лице: иногда птица беспокоилась и пыталась взлететь, иногда мирно вила гнездо среди щек.
Больше всего на свете экскаваторщик любил свою младшую сестру. Она выросла и стала скорняком. Она шила шапки: черные меточки каракуля выезжали, тормозя, на ее виски; в комнате витали маленькие завиточки шерсти, будто барашек или козочка побывали и отбыли; она кроила на полу, пятясь от шкурок круглой оттопыренной попкой; изо рта у нее выбивались иголки.
Мама экскаваторщика и его сестры-скорняка скоро умерла, и экскаваторщик стал заботиться о младшей сестре, чтобы с ней не случилось ничего плохого. Он всегда ее проверял, всегда переспрашивал, где и зачем она была, а когда от него ушла поэтесса, то он буквально стал преследовать своей заботой сестру, шагу не давал ей ступить. Бывало, сестра скажет, что ложится спать, а сама — шасть, и на свидание, а он отвечает, что и сам устал за день, и тоже ляжет, а сам — шасть, и за нею.
Однажды он увидел свою сестру под фонарем с мужчиной.
— У нас есть хотя бы мышца, выдвинутая в будущее! — объявил мужчина; он наклонился к плечу сестры экскаваторщика и откусил пуговичку, украшавшую погончик ее пальто. — А вы все втягиваете вовнутрь, в себя!
— Ты правда меня любишь? — переспросила сестра.
— Я никого не люблю, — кивнул мужчина.
— Мышца твоя, — зашептала сестра, — что гвоздь в летнем сортире. Что нанижут на него? Палую прелую листву нанижут.
— Жизнь моя кончится, если ты уйдешь, — отвернулся от нее мужчина.
Она тоже отвернулась от него. Тогда он повернулся и обнял ее спину.
— Глупая, — говорил он, скусывая остальные пуговицы с ее пальто; оно распахнулось, и нежная, байковая опрелость ночной рубашки с рюшиками, с завиточками кружев на груди открылась лунному свету и отдушке снега. — Глупая, — продолжал он, целуя ее шею.
А на следующий день сестра ушла в крематорий, потому что мужчина, с которым она встречалась под фонарем, был крематорским гардеробщиком. Экскаваторщик не мог даже ее навещать, ведь где-то рядом всегда ходила поэтесса, его бывшая жена, а ему все еще было больно ее видеть.
Экскаваторщик вынашивал планы мести, но у него ничего не получилось: буквально пару месяцев назад гардеробщик и сестра экскаваторщика обнялись и умерли к утру, не оставив даже записки. У нас в городе об этой истории ходили самые разные и противоречивые слухи. Многие склонялись к тому, что сестру экскаваторщика, как скорняка, могли приговорить зеленые, а гардеробщик просто разделил ее участь; иные же поговаривали, что, напротив, сестра экскаваторщика разделила участь гардеробщика — гардеробщик очень любил детей, но усыновленный им Мальчик еще до усыновления скончался от скарлатины, только гениальная музыка осталась от Мальчика, но и она не смогла утешить гардеробщика, а сестра экскаваторщика была бездетна, и смысла как бы в такой жизни совершенно не было… Но в любом случае эта загадочная двойная смерть, по крайней мере, разъяснила другие тайны: ясно теперь, что не случайно поэтесса все деньги отдавала гардеробщику, она конечно же чувствовала свою вину перед семьей экскаваторщика и хотела хоть его сестру сделать счастливой. Становилось понятным и почему именно у гардеробщика взяла поэтесса стремянку в день своего самоубийства — все-таки не чужие, почти родственники…
С самого раннего детства хотел экскаваторщик кому-нибудь отомстить. Он вырос и стал экскаваторщиком, то есть вернулся в детство, чтобы стать там сильнее всех — он теперь больше всех мог загрести песка совочком. Его ладонь ковшиком могла зачерпнуть не только песок, но и асфальт, камни, землю. Но гардеробщику он уже ничего не мог сделать. Не мог отнять у него сестру. Он не мог даже разъединить их мертвые объятья. Их положили в один гроб. Гроб втянуло дуло крематорской топки, круглое, как обгоревший рот тоннеля, красное, горящее и расчесанное изнутри до крови; гроб вошел в это дуло органом, идеально соответствующим вместилищу, но оттого, что вместилищу не было больно, не терлось, не раздирало, экскаваторщику стало еще горше и теснее жить на земле.
…Странно, что я всё боялся ему подражать и даже не заметил, что давно пишу лучше, чем он. Если кто и имеет право называться писателем, то совсем не тот, кто присвоил себе это звание…
Теперь у него никого не осталось, кроме экскаватора, да птицы, присевшей на лицо и притворившейся носом.
По вечерам экскаваторщику было жаль расставаться со своим телом в кабинке, со своей ручищей из мощных сплавов. И под недавний Новый год он решил сделать себе подарок: он задумал возвратиться домой на экскаваторе и оставить его на ночь на дороге у своего подъезда. Кому мог помешать экскаватор в новогоднюю ночь? Никому. А экскаваторщик как будто бы станет чокаться со своим экскаватором, и пожелают они друг другу совместного счастья. И вот остановился экскаваторщик у своего дома, вылез из кабинки, спустился со своего счастья на землю, попрощался, а экскаватор всегда задирал на прощание ковшик, будто хотел им почесать свою умную голову на манер примата, хотя он был гораздо умнее, но дело сейчас не в этом; а только попрощался экскаваторщик и видит — как раз под ковшиком мостовая гораздо чернее, чем в других местах, словно и ночью ковш тень отбрасывает!
Так и есть, смотрит, открыт канализационный люк. Ночь уже почти, мгла, пурга, люди празднуют, выйдут пьяные и — в черную пропасть пространства, поминай как звали. Экскаваторщик завел машину, отъехал чуть и прикрыл ковшом черную дыру. Чувство у него было (впервые после смерти сестры), будто он звезды зачерпнул ковшом и подарил людям. А второго января сдвинул он свой ковш, пошевелил ладошкой, а из дыры поднялись два сантехника и били его долго-долго, так долго, как если бы все это время праздновали бы они Новый год за накрытым для них специально любимыми женщинами столом с салатом «оливье» и даже пельменями (только заметьте, ни мама, ни сестра, ни недолгая жена экскаваторщика никогда не клали в салат «оливье» вареную морковь и не делали селедку «под шубой» в свекольных залежах, припорошенных сыпью мятых яичек, скорее, они могли решиться на форшмак, на фаршированные кабачки, ну а уж если действительно доходило до пельменей, то в расчете по сто крохотных подушечек — наволочки в рюшиках — на человека; экскаваторщик прослышал, что продается даже книга, где описывается кухня мамы и всех ее подруг, которые покупали вещи, чтобы не было войны, а сами умерли так рано, он эту книгу купил и собирался приступить к ней именно в новогоднюю ночь в память о маме…), а не сидели двое суток закрытые в канализационном лазе, откликнувшись на аварийный вызов в конце смены, да и неисправность была, если честно, совершенно пустяковая, на полчаса работы, что и решило дело…
Экскаваторщику отбили почку и ее пришлось удалить, но, по счастью, он оказался стотысячным пациентом, и мэр города лично вручил ему плодово-ягодный участок. Здесь я, разумеется, несколько поясню для путеводителя. Всем стотысячным пациентам у нас удаляют одну почку, и мэр лично дарит им плодово-ягодный участок. Стодесятитысячным делают пересадку сердца и легких полным комплектом, но больше ничего не дают. Двадцатипятитысячнику положена резекция желудка плюс круиз по Средиземному морю. Пятидесятитысячникам прививают, а потом излечивают сифилис, а также дарят квартиру в новом жилом массиве.
Экскаваторщику необыкновенно повезло в связи с тем, что ему нужно было именно удалить почку, а не что-нибудь другое. Стотысячников ведь даже не осматривают в приемном покое, сразу везут в операционную и удаляют почку, хотя человек, может быть, заглянул в больницу по поводу растяжения связок на ноге во время игры в волейбол или по поводу ангины, как назло начавшейся теплым летом, когда можно было бы загорать и купаться. Но оказался юбилейным пациентом — получай. И экскаваторщик по удивительнейшей случайности в медицине получил то что надо.
Да еще с плодово-ягодным участком. Там он стал разводить ягнят в память о сестре и подружился с одним из двух новогодних сантехников; этот сантехник начал навещать экскаваторщика еще в больнице, так они и сроднились. Правда, они очень часто спорили и кричали друг на друга по любому поводу.
Да и было от чего! Сантехник в свое время был режиссером-постановщиком народных маршей и санкционированных митингов. Для редакции нашей уважаемой газеты «На краю» он, в частности, придумал любопытный обряд. Теперь у нас всякий журналист, оказавшийся выскочкой и самозванцем, обязан публично сжечь свое редакционное удостоверение, символизируя: из праха сотворен и в прах обратишься. Такие мероприятия приурочиваются к Дню признаний, чтобы в них мог принять участие весь город. Уважаемые скульпторы готовят к торжеству композиции из отрезанных пальцев или даже кистей рук, и гипсовые их копии, а то и бронзовые воплощения напоминают еще и еще раз о необходимости memento. Сама мистерия осуществляется в крематории под звуки органа, и писатель непременно написал бы, что звучит особая какофоническая тема: словно рыба грызет лед реки, лед вздыбился, как волосы, от боли, острые края обледенелых мутных прядей рыба растрескивает, как женщина, жадно пьющая из бокала и крошащая его вместе с жидкостью, льдом, и непонятно, кому больнее — рыбе, льду реки, женщине, спросите о том у ломтика лимона, скользко оседлавшего бортик бокала, да у маслинки, лежащей на дне… Но однажды фантазия сантехника иссякла сама по себе. Совершенно. Однажды он даже не смог предложить ничего нового для мероприятий по огласке тайн и преступлению клятв. Вот его и уволили. Но поговорить о прошлом он обожал.