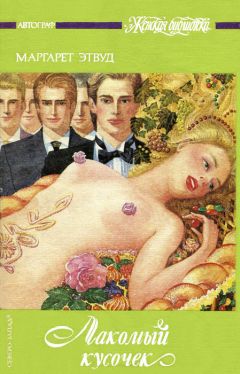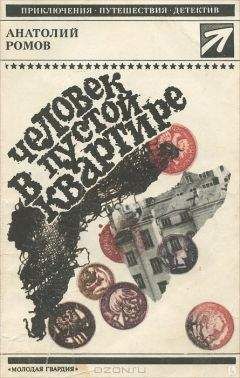Маргарет Этвуд - Постижение
Я велю Дэвиду сматывать: червяка опять нет. Вынимаю из банки лягушонка, последнее средство, и надежно нацепляю его на крючок, а он пищит. До сих пор это всегда делали за меня другие.
— Черт, ну и бесчувственная же ты, — говорит Анна. Лягушонок уходит под воду, дрыгая ногами, будто плывет кролем.
Все сосредоточенно ждут, даже Анна. Чувствуют, что это моя последняя карта. Я гляжу в темную глубину, для меня это всегда был вид духовной деятельности. У брата была другая техника, он стремился их перехитрить, а мое средство — молитва, вслушивание.
Отче наш, иже еси на небесех,
Пожалуйста, пусть рыба поймается.
Позже, когда я узнала, что это не действует, — просто: «Пожалуйста, поймайся», заклинание рыбы, или гипноз. Он вылавливал их больше, чем я, но я воображала, что мои пошли на крючок добровольно, что они сами решили умереть и заранее простили меня.
Кажется, и лягушонок не сработал. Но нет, магия действует, удилище вдруг изгибается, как прут лозохода. Анна вскрикивает.
Я говорю:
— Держи лесу натянутой.
Но Дэвид, забыв обо всем на свете, крутит катушку и при этом тихонько стонет. Вот рыба уже у самой поверхности, вот она выскакивает из воды и зависает в воздухе — совсем как фотография в баре, только движущаяся. Потом снова ныряет, тянет лесу, отпускает, думает, наверно, что так ей удастся освободиться, но, когда она снова выпрыгивает в воздух, Дэвид изо всех сил дергает удилище, и рыба, описав дугу, шлепается в лодку — это он напрасно, могла бы сорваться, — прямо на Анну. Анна отшатывается с воплем: «Уберите ее от меня!», отчего каноэ едва не переворачивается. Джо, чертыхнувшись, хватается за один борт, я для равновесия откидываюсь к другому, Дэвид тянется за рыбой. Она скользит по шпангоутам, бьет хвостом, разевает пасть.
— На вот тебе нож, — говорю я. — Хрясни ее повыше глаз.
Я протягиваю ему зачехленный ножик, мне бы не хотелось приканчивать ее самой.
Дэвид ударяет, промахивается; Анна закрывает лицо ладонями и охает. Рыба, хлопая плавниками, ползет ко мне, я наступаю на нее одной ногой, хватаю у Дэвида нож и, торопясь, бью с размаху рукояткой ножа, проламывая череп, по рыбе пробегает легкая дрожь, дело сделано.
— Кто это? — спрашивает Дэвид, он потрясен, но и горд тоже.
Все смеются от радости, торжества и облегчения — совсем как на парадах в конце войны, которые показывали в кинохронике; мне это приятно. Веселое эхо отдается от отвесной скалы.
— Это пучеглазая, — отвечаю я. — Щука. Мы ее съедим на завтрак.
Крупный экземпляр. Я поднимаю ее, крепко зацепив пальцами под жабры, они могут цапнуть и вырваться, даже когда мертвые. Кладу ее на ворох папоротника и мою руки и нож. Один глаз у нее вытаращен, и мне становится не по себе, потому что это я убила, я причинила смерть; но я понимаю, что это глупость, иногда убивать — вполне правильно: для еды, например, или врагов, рыбу, комаров, и ос тоже — если их разводится чересчур много, льют в их гнездо крутой кипяток. «Не троньте их, и они вас не тронут», — говорила мама, когда осы садились прямо на тарелку. Тогда еще дом не был построен, мы жили в палатках. Отец объяснял, что осы развиваются циклами.
— Здорово, а? — говорит Дэвид; он возбужден и хочет, чтобы его похвалили.
— Бр-р-р, — морщится Анна. — Вся скользкая, я ее есть ни за что не буду.
Джо кряхтит, по-моему, он завидует.
Дэвид хочет еще раз попытать счастья; это как азартная игра: останавливаешься, только когда проиграешь. Я не напоминаю ему, что у меня больше нет магического лягушонка; достаю червяка и предоставляю ему наживить самому.
Он принимается удить, но удача ему больше так и не улыбнулась. Анна опять заерзала, и в эту минуту я слышу отдаленный комариный писк — моторка. Прислушиваюсь: может быть, она идет куда-то в другое место; но она огибает мыс, и писк превращается в рев мотора, она коршуном устремляется на нас, большая, целый катер, из-под носа белыми гребнями отваливает вода. Выключили мотор и, скользя, подплывают к нам, поднятая ими волна подбрасывает наше каноэ. На носу у них американский флаг, другой такой же вьется за кормой, а на борту два раздраженных бизнесмена с бульдожьими мордами, экипированные по последнему слову, и тощий, бедно одетый парень из деревни, проводник. Узнаю Клода измотеля, он смотрит на нас волком — верно, считает, что мы браконьерствуем в его угодьях.
— Ловится? — орет один из американцев, обнажая зубы, дружелюбный, как акула.
Я кричу: «Нет!» — и пинаю Дэвида. Он бы, конечно, ответил утвердительно, хотя бы просто им назло.
Второй американец швыряет в воду недокуренную сигару.
— Не слишком-то многообещающее местечко, — ворчливо говорит он Клоду.
— Раньше здесь хорошо клевало, — говорит Клод.
— На будущий год я еду во Флориду, — заявляет первый американец.
— Сматывай, — говорю я Дэвиду. Дольше оставаться здесь не имеет смысла. Если они выловят хоть одну рыбину, они обоснуются здесь до утра, а если ближайшие четверть часа им ничего не принесут, они врубят мотор и с оглушительным воем понесутся на своем суперкатере по всему озеру, распугивая рыбу. Эта публика такая, всегда норовят поймать больше, чем способны съесть, и ради этого пускали бы в ход динамит, если бы не рыбнадзор.
Мы когда-то считали их безобидными, забавными и совсем беспомощными, даже чем-то располагающими к себе, вроде президента Эйзенхауэра. Как-то раз мы встретили двоих на волоке, они тащили на себе жестяную лодку с мотором, чтобы потом не надо было грести; треск от них по кустарнику шел такой, что мы сначала приняли их за медведей. А один со спиннингом объявился откуда-то у нашего костра и сразу же умудрился ступить обеими ногами в огонь, спалил свои новые туристские ботинки; когда он забрасывал снасть, размахнулся с такой силой, что приманка — живой пескарик в прозрачном пластиковом мешочке с крючками — залетела в кусты на том берегу. Мы смеялись над ним у него за спиной, а потом спросили, уж не белок ли он приехал сюда ловить, но он не рассердился и показал нам свою автоматическую зажигалку для костра, и набор котелков со съемными ручками, и складное походное кресло. Они любят все складное.
На обратном пути мы держимся ближе к берегу, стараемся не выходить на открытую воду — вдруг американцам взбредет в голову промчаться на полном ходу у нас под самой кормой, они так иногда делают, для смеха, а на их волне наша лодочка может и перевернуться. Но мы покрыли только половину расстояния, когда они с гулом проносятся мимо и исчезают в небытии, как марсиане в новомодном фантастическом фильме; теперь можно вздохнуть спокойно.
Вернемся домой, я первым делом подвешу нашу рыбину на крючок и мылом смою с рук шелуху и соленый подмышечный запах. Потом засвечу лампу, затоплю плиту и сварю какао. Только сейчас я перестала чувствовать себя здесь незваной гостьей. И знаю почему; потому что завтра мы наконец уезжаем. Остров останется в распоряжении отца: безумие — личное дело безумца, это я полностью признаю; как бы он тут ни жил — все лучше, чем психушка. Перед выездом я сожгу его рисунки, они свидетельствуют о чем не надо.
Солнце село, мы скользим назад в сгущающемся сумраке. Голос гагары вдали; мелькают летучие мыши, снижаются у самой воды, она теперь гладкая; все, что стоит на берегу: белесые камни, сухие деревья, — повторяется в ее темном зеркале. Такое ощущение, будто кругом — бесконечное пространство; или же вообще никакого пространства, только мы и черный берег, протяни руку — достанешь, вода, отделяющая нас от него, словно бы не существует, Плывет отражение лодки, в ней — мы, шевелятся удвоенные озером весла. Словно скользим по воздуху, ничем не поддерживаемые снизу; подвешенные в пустоте, плывем домой.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Рано утром Джо будит меня; руки у него по крайней мере умные, они движутся по мне внимательно, как руки слепца, читающего по азбуке Брейля, умело, точно вазу, формуют меня, исследуют; повторяют ходы, уже испробованные прежде; они знают, что делают, помнят, как лучше, и мое тело отвечает, предугадывает его действия, искушенное, четкое, как пишущая машинка. Самое лучшее, когда их не знаешь. Вспоминается одна фраза, шуточная тогда, но теперь исполненная грустного смысла, чьи-то слова в темной машине после школьной вечеринки: «Напяль мешок на голову — и не узнаешь кто». Я тогда не поняла, но потом часто думала об этом. Почти похоже на старинный герб: двое соединены в любовном объятии, а на головах мешки, и чтобы ни щелочки для подглядки. Хорошо это было бы или плохо?
Потом, когда мы передохнули, я встаю, одеваюсь и иду готовить рыбу. Она всю ночь провисела на веревке, пропущенной через жабры и подвязанной к ветке дерева, недосягаемая для навозников, енотов, выдр, норок, скунсов. Отвязываю веревку и несу рыбу на берег потрошить и резать на куски.