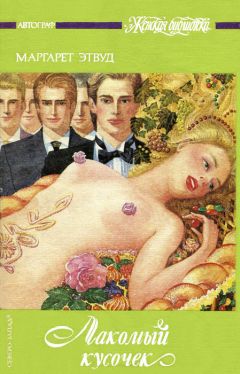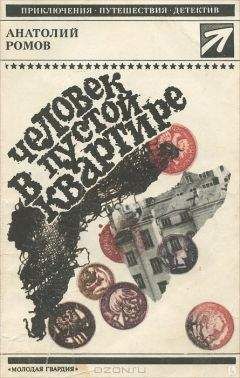Маргарет Этвуд - Постижение
Пачка бумаг по-прежнему лежит на полке под лампой. До сих пор я их не трогала, перебирать его бумаги, если он жив, значило бы вторгаться в его личное. Но теперь, раз я допускаю, что его нет, стоит, пожалуй, посмотреть, что он мне оставил в наследство, В роли душеприказчика.
Я ожидала найти что-нибудь вроде отчета о росте и болезнях деревьев, незавершенный труд; но на первой странице оказался только грубый рисунок человеческой руки, выполненный фломастером или кистью, и к нему непонятные обозначения, цифры, какое-то название. Пролистываю еще несколько страниц. Опять руки, одна по-детски статичная человеческая фигурка без лица, ступни и кисти тоже отсутствуют; на следующей странице — такое же существо, но на голове торчат то ли древесные ветви, то ли оленьи рога. И на каждой странице — разные числа, а кое-где и слова: лишайник, красные, слева. Совсем безо всякого смысла. Почерк папин, но измененный, какой-то торопливый, небрежный.
Снаружи доносится деревянный стук, это борт каноэ ударяется о мостки, они причалили на слишком большой скорости. Потом их смех. Кладу бумаги обратно на полку, не хочу, чтобы они видели.
Вот что он делал тут всю зиму: сидел один в лесном доме, отрезанный от мира, и выводил эти бессмысленные каракули. Склоняюсь над столом, и сердце у меня тревожно колотится, словно я вдруг открыла шкаф, который считала пустым, а там оказалось нечто совершенно неуместное — коготь, например, или кость. Возможность, которую я упустила из виду: он мог сойти с ума. Спятить, сбрендить. Трапперы знают, что это случается, когда слишком долго живешь один в лесу. И если сошел с ума, то вполне возможно, что не умер; тогда все правила меняются.
Из комнаты выходит Анна, снова в брюках и рубашке. Останавливается перед зеркалом и расчесыва ет волосы, светлые на концах, темные у корней, напевая с закрытым ртом «О мое солнце»; от сигареты тянется, завиваясь, синий дымок. «Помоги, — мысленно кричу я ей, — Заговори!» И она слушается.
— Что на обед? — говорит она, а потом машет рукой: — Вот и они!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
За ужином мы допиваем пиво, Дэвид хочет порыбачить, это последний вечер, я оставляю посуду на Анну, беру лопату и жестянку из-под горошка и иду в дальний конец огорода.
Копаю в зарослях сорняка вблизи компостной кучи, поднимаю лопатой комок земли и просеиваю его в пальцах, выбирая червей. Земля жирная, черви извиваются, они розовые и красные.
Никто тебя не любит,
Не ценит, не голубит.
Пойди на огород, наешься червяков.
Была такая дразнилка, ее пели друг другу на переменах, смысл у нее обидный, но, может быть, они съедобны. В сезон их продают, как яблоки, у дороги, на щитах можно прочесть: VERS 5f,[21] иногда 5f, потом исправлено на 10f — инфляция. На уроке французского языка я verse libre[22] сначала перевела как «свободные черви», и она сказала, что я много себе позволяю.
Кладу червей в жестянку, подсыпаю им немного земли. Несу, прикрыв ладонью; они уже толкаются теми концами, где у них голова, хотят вылезти, Прикрываю жестянку обрывком бумажного пакета и стягиваю резинкой. Мама была запасливая: резинки, бечевки, булавки, стеклянные банки — для нее депрессия так и не кончилась.
Дэвид свинчивает взятое у кого-то удилище; оно из фибергласа, я в такие не верю. Я снимаю со стены старый стальной спиннинг.
— Пошли, — говорю я Дэвиду. — Вот этим можешь ловить на дорожку.
— Покажи, как зажигается лампа, — просит Анна. — Я останусь, почитаю.
Мне не хочется оставлять ее здесь одну. Опасения мои связаны с отцом: что, если он затаился где-то на острове и, привлеченный светом, вдруг возникнет в окне, точно огромная ночная бабочка; или же, если он сохранил хоть каплю рассудка, спросит, кто она такая, и велит ей убираться из его дома. Пока мы держимся вчетвером, он не покажется — он всегда не любил скопления людей.
— Это неспортивно, — заявляет Дэвид.
Я говорю, что без нее будет слишком маленькая осадка, а это чистая неправда, мы и так перегружены, но она принимает на веру мое авторитетное мнение.
Пока они устраиваются в лодке, я снова иду в огород и ловлю леопардового лягушонка — на всякий пожарный случай. Сажаю его в стеклянную банку и протыкаю в крышке несколько отверстий для воздуха.
Ящик для снастей, от него идет застарелый рыбный дух, запах прежних уловов; сую туда жестянку с червями, лягушку в склянке, нож, охапку папоротника, на котором рыбы будут исходить кровью.
Джо уселся на носу, за ним Анна, подстелив спасательный жилет, лицом ко мне, потом, на другом спасательном жилете, Дэвид, он сидит ко мне спиной, переплетя ноги с Анниными. Перед тем как оттолкнуться, я прицепляю к леске Дэвида золотисто-серебряную рыбку с красным стеклянным глазом и насаживаю на нее червяка, за бочок, чтобы он аппетитнее извивался с обоих концов.
— Бр-р-р, — произносит Анна, ей все видно.
«Им не больно, — говорил брат. — Они ничего не чувствуют».
«Тогда почему они так корчатся?» — спрашивала я. И он объяснял, что это от натяжения нервов.
— Что бы ни случилось, держитесь посередине лодки, — распоряжаюсь я.
Мы грузно выплываем из залива. Я чересчур много на себя взяла, я же столько лет не садилась в каноэ, у меня теперь мускулы никуда не годятся. Джо на носу загребает веслом, будто перемешивает в озере воду половником, корма у нас задрана. Да только им все равно не понять. Хорошо еще, думаю я, что наше существование не зависит от сегодняшнего улова. Муки голода, люди прокусывают себе руку и сосут кровь — вот что приходится делать иной раз в спасательных шлюпках; или же рыбная ловля по-индейски: нет наживки — вырежь у себя кусок мяса.
Берег острова отдаляется у нас за кормой, здесь мы вне опасности. Над лесными вершинами разбежались в небе барашки облаков, а внизу, у воды, тихо, тепло и влажно, это к дождю. Рыба любит такую погоду, комары тоже, но опрыскиваться нельзя: попадет на наживку — и рыбы почуют.
Правлю вдоль берега «большой земли». Из прибрежной заводи взлетает, хлопая крыльями, опытный рыболов — голубая цапля, летит над нами, вытянув вперед шею с длинным клювом, сзади протянуты лапы, летучая змея. Заметила нас, крякнула хриплым птеродактилем и взмыла повыше; взяла курс на юго-восток, там они раньше гнездились большой колонией, наверно, и сейчас живут. Теперь надо внимательнее следить за Дэвидом. Медная леска наискось уходит за борт, разрезая воду и чуть-чуть вибрируя.
— Ну как, берет? — спрашиваю.
— Подергивает вроде малость.
— Это блесна вертится, — говорю я. — Опусти конец удилища пониже; как почувствуешь потяжку, пережди секунду и резко дергай, понял?
— Ясно, — отвечает он.
У меня устали руки. Сзади меня слышится тиканье — это лягушонок подскакивает в банке и бьется головой в крышку.
Мы подходим к крутому каменному обрыву, и я велю Дэвиду сматывать леску. Здесь мы будем удить с лодки на плаву, он может пустить в ход свою собственную снасть.
— Анна, готовься, — острит он. — Я пущу в ход мою собственную снасть.
Анна говорит:
— О Боже, без этих шуточек ты никак не можешь, а?
Он довольно посмеивается и крутит катушку, леска бежит из воды, роняя капли; бледно сверкнула, поднимаясь из глубины, трепещущая блесна, Когда она начинает прыгать по поверхности, приближаясь к борту, я вижу, что червяка нет, на крючке только обрывок кожицы. Я раньше удивлялась, как это примитивные блесны с глазами африканских идолов могут обмануть рыб, но, видно, и рыбы кое-чему научились.
Мы стоим прямо под обрывом, это высокая каменная стена, совсем как искусственное сооружение, слегка даже нависающая, с одним небольшим выступом, вроде ступеньки, на полдороге к верху. В трещинах растет бурый лишайник. Я нанизываю на удочку Дэвида свинцовое грузило и другую блесну с новым червем и забрасываю; ярко-розовый червяк уходит под воду, становится все темнее, бурее и теряется в тени под скалой. Сейчас уже рыбы, мелькающие черными торпедами, должно быть, заметили его, обнюхивают, толкают носами. Я верю в них, как другие люди верят в Бога: я их не вижу, но знаю, что они есть.
— Сиди тихо, — говорю я Анне, она вдруг вздумала устроиться поудобнее. — Рыбы слышат.
Тишина; день меркнет; из лесу доносятся влажные спиральные трели дрозда, они всегда поют на закате. Дэвид дергает: ничего.
Я велю Дэвиду сматывать: червяка опять нет. Вынимаю из банки лягушонка, последнее средство, и надежно нацепляю его на крючок, а он пищит. До сих пор это всегда делали за меня другие.
— Черт, ну и бесчувственная же ты, — говорит Анна. Лягушонок уходит под воду, дрыгая ногами, будто плывет кролем.
Все сосредоточенно ждут, даже Анна. Чувствуют, что это моя последняя карта. Я гляжу в темную глубину, для меня это всегда был вид духовной деятельности. У брата была другая техника, он стремился их перехитрить, а мое средство — молитва, вслушивание.