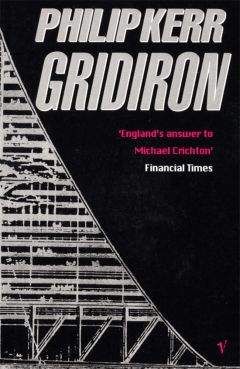Арман Лану - Свидание в Брюгге
Оливье проворчал:
— Итак, мой мотороллер уплыл! Это уж слишком.
Оливье сделал вид, что ужасно разгневан. Они только что объяснились с Улыбой — Оливье как будто бы понимал речь этого несчастного, всю состоящую из каких-то булькающих звуков.
— Негодяй! — кричал Оливье. — Несчастный выродок! Представляешь, Робер, какую шутку он со мной сыграл! Эта макака Фред! Он воспользовался нашей встречей и увел мою машину! Свинья! Наверное, понесся очертя голову! И все из-за этой Сюзи, которая звонила! Она преследует его, а он нет-нет да и улизнет тихонько, не побрезговав, между прочим, моим мотороллером. А тот тип, того гляди, подохнет!.. Мерзкая тварь! Заметь, еще одна черта здешних нравов, очень характерная: нет ничего «моего», все общее. Доказательство налицо!
— Даже Сюзи? — спросил Робер, надевая пальто и наглухо застегиваясь.
— Она только об этом и мечтает! Ну что ж, тем хуже! Пойдем пешком. Можно бы воспользоваться «бристолем», но это слишком жирно для восьмисот метров, и потом наш хозяйственник взбесится, тоже еще лупоглазый кретин, выродок альпийский, башибузук…
— Этот пресноводный водолаз, эта человекообразная обезьяна, — подхватил Робер, вполне усвоивший словарь, любезный сердцу капитана Хаддока, — этот енот-полоскун.
— Прошу прощения. Енот не имеет никакого отношения к лексикону Хаддока. Енот — монополия Превера. Ты допускаешь непростительные семантические интерполяции.
Таинственный город, встретивший путников час назад тишиной, тревожно гудел, освещение в окнах стало ярче. Чувствовалось, что корпусов много, они жались к высоким обомшелым деревьям, но из-за темноты глаз не охватывал всего ансамбля. За часовней ветер хлестнул их по лицу снежной крупой.
— Будь я поклонником романтизма, — проговорил Оливье, — я бы сказал так: «Ветер рвал на них одежды, то был ветер с моря», — что абсолютная чушь, потому как морской ветер дует с противоположной стороны, и, клянусь тебе, тут уж не ошибешься. Все тогда вокруг пахнет рыбой, а на зубах скрипит песок. Сейчас ветер с суши, с Востока. И так как от самых Арденн его ничто не задерживает, он несется здесь, как транссибирский экспресс. Бррр…
— А ты, наверное, окоченел, на босу-то ногу.
— Нет, босые ноги — это символ, а символы греют.
Они пересекли двор, мощенный каменными плитами, из-под которых выбивались космы травы, и вошли под арку, ту самую, где Улыба путался, указывая им дорогу. В толстой стене старого особняка под слезящимся сводом открывалась потайная дверца. В глубине коридора все так же горела лампочка, сияя маслянистым желтым ореолом. В полумраке — доска с именами сотрудников и названием отделов.
— Налево — женское отделение.
— А у вас есть и женщины?
— Наша больница смешанная. Метж, которую ты только что видел, — у них старшая сестра. Давай-ка поспешим, а то неудобно заставлять шефа ждать.
Они свернули с дороги на узкую тропку, которая вела к темной массе приземистого здания, просверленной множеством огней. Снег падал все гуще, они ступили, должно быть, на лужайку: из:под снежного покрова выступали какие-то изуродованные зимой растения.
У входа в здание с куцым крылечком Оливье позвонил. Внутри залился колокольчик. Зашаркали чьи-то ноги. Скрипнул ключ в дверях. Дверь со скрипом отворилась. В глаза ударил яркий зеленый больничный свет. Усатый мужчина, открывший им дверь, напоминал гарсона из кафе тысяча девятисотого года.
— Добрый вечер, Жермен, — сказал Оливье.
— А, господин доктор, добрый вечер. Главврач только что пришел, — сказал Жермен с характерным гортанным выговором, на который еще раньше обратил внимание Робер.
Они углубились в коридор, сиявший чисто вымытыми стенами. «Ну вот это уже действительно похоже на больницу: кругом голубой кафель». Прошли санитары, о чем-то оживленно споря, говорили по-фламандски; гулкое эхо разносило их голоса. «Какой здесь сильный резонанс», — подумал Робер. Каждый раз, когда на радио, на телевидении или в кино хотят правдоподобно представить больницу, добавляют один штришок — гулкие звуки. Искусство постановщика в первую очередь заключается в том, чтобы не сбиться на фальшь, умело выбрать такие вот характерные детали. Эта была безошибочной. Больнице еще свойствен запах, не поддающийся определению, индивидуальный для каждой лечебницы и тем не менее общий для всех них: непривычный нос очень чувствителен к нему, а те, что принюхались, уже не воспринимают его.
— Они чем-то взволнованы, — сказал Оливье.
— Кто?
— Санитары. Конечно же, не больные. Те в это время уже спят. Вечерняя ремиссия, когда дневное возбуждение спадает.
— Медперсонал — и волнуется?! Явно отклонение от нормы!
— Идиот несчастный! Их волнуют профсоюзные выборы! Ведь они трудящиеся, мой дорогой. Их профсоюзы не имеют ничего общего с политикой, не так, как у нас, но тут сцепились социалисты и христиане по вопросу секуляризации, — такую свару затеяли.
К Оливье подошел медбрат и что-то тихо сказал ему.
— Разумеется, — ответил врач. — Надо продолжать. Хуже не будет.
Оливье чуть повернулся к Роберу и распахнул перед ним стеклянную дверь, предлагая пройти в следующий коридор, еще более длинный. Слева — окна, глядящие в ночь, справа — двери палат. Промелькнули длинные ряды кроватей с одинаковыми просветами между ними, многие больные еще не спали. Некоторые словно застыли в неудобных позах; однако на первый взгляд они не слишком отличались от терапевтических больных. Правда, Робер шел, а не стоял на одном месте, отчего впечатление несколько сглаживалось.
— А кроме того, — продолжал Оливье, — рождество на носу.
Робер совершенно забыл о рождестве. Ну конечно, не могла же больница для душевнобольных лишить себя такого праздника. Он не пришел в восторг от этой мысли, хоть она и показалась ему любопытной и взволновала его.
— И знаешь, дорогой, — говорил Оливье, — ради праздничка я покажу тебе отличный сеанс электрошока. Ты не зря приехал встретить рождество в больнице — это чего-нибудь да стоит. Твоя Жюльетта — просто недоумок. Между нами, почему бы больным тоже не повеселиться. Они развесят гирлянды, сделают ясли, разучат разные там хоралы. Некоторых из них я даже приглашаю петь во время ночного богослужения.
Оливье понимал толк в музыке. А вот в живописи, хотя Дю Руа и торговал картинами, Робер разбирался лучше. И в этом они дополняли один другого… Робер никак не мог представить себе сумасшедших, славящих рождество. Нет, действительно, эта мысль не приводила его в восторг.
— Чтобы сумасшедшие и пели!
— Мосье, запомните раз и навсегда, здесь нет сумасшедших. «Сумасшедший» — это выдумка психически здоровых людей. Есть только больные, Заруби это себе на носу, осел!
Оливье толкнул дверь, которой заканчивался коридор. Дорога Роберу показалась бесконечно длинной, такой же, как от ворот больницы до дома Оливье. Оливье пропустил гостя вперед.
Узкая комната. Высокие готические окна, которые так не вязались с крашенными эмалевой краской стенами. Металлическая кровать у стены. Сначала Робер увидел какую-то бесформенную глыбу под серым одеялом и что-то вроде коровьего хвоста, торчавшего из-под него, — при ближайшем рассмотрении это оказалась рыжая шевелюра. Оливье вошел вслед за Робером и прикрыл за собой дверь. Главврача еще не было.
— Должно быть, Эгпарс задержался в дороге. Я говорю о главвраче. Красивое имя — Эгпарс, правда? Он с Арденн. Этакий горный кабан.
Дю Руа подошел к больному. Робера поразило, как прямо и естественно держался Оливье, потому что он изменился не только внутренне, но и внешне. В бытность свою торговцем картинами, Оливье то вдруг начинал важничать — ведь он на виду! — и ходил, выпятив грудь, надувшись, как индюк, высоко вздернув подбородок, а то вдруг сникал, весь расслаблялся и опадал, становился одновременно и толще и меньше. Теперь он всегда высоко держал голову, но это не выглядело нарочитым. Однако Робер помнил, что Оливье мастер перевоплощения, не уступит Фреголи, и сейчас еще рано делать выводы.
Небрежно бросив на стул пальто, Оливье широким, стремительным жестом, забыв, что он в нескладно сшитом халате, весь безукоризненно белый, откинул одеяло. Лежавший под ним больной не спал. Голова его глубоко ушла в подушку, и из нее смотрел на них темно-синий, маленький, но ярко блестевший глаз, другой закрывала подушка. Как будто дикий зверь, попавший в западню. От бороды в виде растрепавшегося стебля кукурузы на лицо падали рыжеватые отсветы — лицо с портретов немецких мастеров пятнадцатого века. Первое впечатление от знакомства с этим человеком, который смущал покой всей больницы, было неприятным. Сумасшедший — то бишь больной, душевнобольной, чужеродный элемент в обществе, отчужденный — не внушал симпатии.