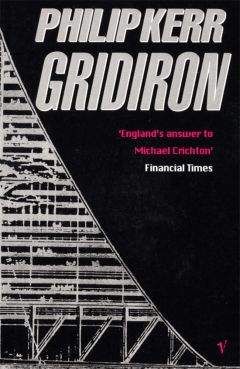Арман Лану - Свидание в Брюгге
В ту пору, чтобы ворочать делами, приходилось поступаться совестью. В большей степени, чем во все другие времена. Оливье жил припеваючи: имел особняк и самолет, — сбывая на черном рынке медикаменты. Когда же Оливье получил наследство в Бельгии, то он стал скупать картины некоего Бюффе, молодого художника, печального певца нищеты, правда вскоре им позлащенной, от которого отступились торговцы картинами Арман Друан и Давид. Прослышал ли Оливье Дю Руа о возможном взлете тогда еще нищего художника или у него был особый нюх. Оба предположения не лишены оснований: ни ум, ни инстинкт никогда Оливье не подводили.
Во всяком случае, когда в прошлый раз Робер собрался с визитом к Оливье, тот устроил ему самолет в Бурже и оказал королевские почести при встрече в Брюсселе. В те времена Оливье Дю Руа был похож на молодого Идена, его блеск умеряла лишь самая малость безвкусицы, именно та малость, которая необходима человеку, чтобы он не превратился в восковую фигуру из музея Гревена. Оливье показал Роберу закулисную сторону торговли живописью и объяснил непостижимое действие механизма, вознесшего художника Бюффе к вершинам славы. Вознесение Бюффе — это результат махинаций, талант тут в счет не идет, хотя у него, бесспорно, был талант, — достаточно взглянуть на его пейзажи. На его примере Робер постиг все торгашеские уловки, он узнал, как первые полотна художника были выставлены на конкурс молодых живописцев, как некий критик «заметил» их и обратил на них внимание жизнерадостного Армана Друана и как тот закупил оптом всю мастерскую бедствующего Бюффе; он узнал как уплывали полотна Бюффе, которые скупали иностранные торгаши, чьей непосредственной специальностью были операции с такими величинами, как Боннар, Утрилло, Ренуар, а потом этих «покупателей» повергли в изумление маршаны, предложив им перекупить у них раннего Бюффе за цену значительно более высокую, чем начальная; и вот тут-то произошло превращение художника в светского денди, привыкшего обедать у Максима и водить знакомство со львами и львицами нашего времени, включая Брижит Бардо и Роже Вадима и Франсуазу Саган. Да, теперь Робер имел все основания удивляться: из блестящего молодого человека Оливье превратился в обыкновенного ординатора, заурядно одетого, в сандалиях на босу ногу, как ходят францисканские монахи, да еще в разгар зимы. И без копейки денег к тому же!
— Мне стало скучно, Робер. Я начал полнеть. Прибавление в весе — плохой признак. Не все это понимают. Утром, когда я смотрелся в зеркало, мне становилось не по себе.
— Как у Мопассана.
— Именно. Только я был избавлен от самых неприятных неприятностей, выпавших на долю Милого друга, чем я обязан пенициллину — этой чудодейственной плесени. Короче говоря, я не хотел больше играть на рынке. Для меня Бюффе больше не существовал. Для меня. Потому что его время еще не вышло. Путь ему прокладывает такая мощная сила, как экономическая выгода, сейчас он может не опасаться, что звезда его закатится. Ну конечно, он талантлив, у него есть изюминка! И потом, когда художник богат, его не трогают, сомнения начинаются уже после его смерти, это общеизвестно. Но пока он жив, никто и не пикнет. В игру, которая ведется вокруг него, втянута целая группа заинтересованных лиц. А мне вдруг стало скучно! Знаешь, что сказал художник Паскин по поводу торговца картинами Бернгейма? Паскин был богат и утомлен жизнью. И он сказал: «Я отвратителен себе. В этом виноват Бернгейм. Он заставляет меня писать одну и ту же картину в четырех-пяти экземплярах. Я пишу. Я пишу, потому что я дрянь. Но мне опротивело быть дрянью, с этим надо кончать!» И знаешь, что он сделал? В одно прекрасное утро он накинул себе на шею петлю, вскрыв перед этим вены на руке и начертав на стене кровью имя возлюбленной. И Паскин дешево отделался — не сочти меня циником. Я не последовал его примеру, но жить мне стало невмоготу. И вот представь, а вдруг Бернгейм заболел бы той же болью, что и Паскин. Этого не было, но предположим. А вдруг торговец картинами так же тонко устроен, как и «его» художник? Такое бывало, ты знаешь. У Ван-Гога это был брат Тео, у Модильяни — добряк Зборовский… Однако не все могут играть в Волара и доброго сыщика. Неплохо сказано, — это не моя острота — это Форэна. И тут я вспомнил, что могу стать врачом: я ведь только чуть-чуть недоучился, и надо спешить, пока существуют льготы для бывших военнослужащих, макийяров, бывших военнопленных; не долго думая, я снова записался на лекции в Лилле. Как-нибудь в другой раз я расскажу тебе, каким образом очутился здесь, сюда я очень рвался, чтобы увидеть вблизи, как разваливается мое дело. Вот так-то.
Робер молчал, он был удивлен, взволнован.
Оливье набил трубку и тихо сказал:
— Общество поклоняется тому богу, которого оно заслуживает.
Из-под маски клоуна в расшитых звездами тряпках проглянуло живое человеческое лицо.
И снова звякнуло медное блюдо чеканной работы, то самое, что служило мишенью. Жюльетта вздрогнула. Оливье бросил пистолет на кровать.
— Ты не можешь даже представить себе, Робер, как мне здесь хорошо. Не знаю, что меня ожидает в дальнейшем, неизвестно, буду ли я хорошим врачом, но мне хорошо. Раньше, когда я занимался Бюффе, стоило мне открыть утром глаза, как на меня наваливалась тоска. Прежде я со страхом гляделся в зеркало: на меня смотрел оттуда чужой человек. Теперь же я просто не вижу себя. Понимаешь? Я бреюсь, но я себя не вижу, и ничто меня не мучит. Я знаю, что я это я, и мне хорошо. В больнице, какой бы она ни была, мне нравится одна вещь — в ней есть что-то материнское. Словно ты припал к груди матери. Материальных забот — никаких. Время бежит себе и бежит.
— Странно, — сказал Робер, — но и у меня такое же ощущение. В первые минуты эта крепость вызывает протест. Но потом начинает казаться, что ты здесь уже бывал и все кругом тебе знакомое, свое. Я все думаю, почему так, и не могу понять…
— А ты ведь не изучал медицину.
— Где там!
— Ох, тошнит от вас, — сказала Жюльетта, которая вот уже несколько минут молча слушала их.
Она резко поднялась и кинулась в комнату, которую Оливье назвал «ее апартаментами», дверь за ней с шумом захлопнулась.
Оливье рассмеялся.
Робер смущенно покачал головой.
— И главное, что это искренне. И она мучается, потому что уже давно ничего не понимает.
— Она сердится на тебя за то, что тебе хорошо, — сказал Оливье.
— Не так категорично! Тоже мне психолог!
— А, дьявол с вами! Еще виски?
— Разумеется, — сказал Робер, усаживаясь поглубже в кресло и подставляя ноги огню.
Он блаженно потянулся. Что верно, то верно, и он тоже чувствовал себя в этом большом старом доме покойно и уютно. А все-таки что ему напоминали эти места?
— У меня такое впечатление, — тихо проговорил Робер, — будто вся эта обстановка мне давно знакома, будто я уже бывал здесь и даже жил тут.
— Может, ты когда-нибудь содержался в таком доме?
— О, тоже мне, Кнок![5] Из тебя вполне может выйти второй доктор Кнок! Нет, я серьезно. Такое впечатление, словно ты все это уже видел, и это должно бы тревожить, а на самом деле мне бесконечно покойно.
— Ощущение «когда-то виденного» — вещь, хорошо известная в лечебной практике. Оно преследует многих больных, им кажется, что они участвуют в пьесе, которую уже когда-то играли: те же декорации, те же слова, которые им кто-то подсказывает. Они словно вновь переживают свою жизнь.
— Совершенно верно! — сказал Робер, чуть приподнявшись.
Из-под вьющихся волос озорно смотрели большие умные глаза с бархатистым отливом. Он выглядел очень молодо. И стал вдруг выше и стройнее. И менее скованный, более импульсивный — более бесшабашный и как никогда юный.
— А, вспомнил! Сен-Сир, старик! Ну конечно же, Сен-Сир! Когда я учился на офицера запаса. Это его дверь, его залы, лестницы, по которым мы носились как угорелые, потому что всегда опаздывали, и этот парк с прудом — биде мадам Ментенон, и загон, где вышагивали провинившиеся сенсирцы в элегантных лохмотьях. Да, да, это то самое. И столовка, где кормили обильно и невкусно. Но как я жрал, бывало, — за ушами трещало: голод-то — не тетка. И, помню, я все боялся, что меня не пустят в отпуск. Как же это называлось? А… «увольнительные — чаевые». А на занятиях мы, бывало, играли в покер, — положим друг на дружку уставы, спрячемся за ними и вот режемся! И спал я тогда как убитый.
За перегородкой послышался заливистый смех Домино и затем скорбный голос Жюльетты: она выговаривала девочке за слишком громкий смех. И отчего им всем так весело!
— Нет, действительно, — продолжал Робер, — ваш городок чем-то напоминает военный. Да, да, не спорь. Эти строения похожи на казармы. Кастрюли — на котелки. А здешние порядки — то, что нельзя свободно выйти, хоть иногда это и удается… А твой мажордом! Да это же настоящий денщик. Так что загадка разгадана, и я доволен!