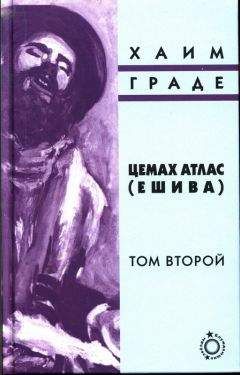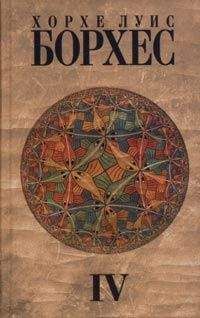Роберто Пацци - Конклав
Непроницаемость обоих монсеньоров наводила на мысль – все ли, что нужно, есть в сумке и хватит ли, чтобы дать инженеру. Однако Назалли Рокка почувствовал смущение камерленга и с легкостью разрешил его сомнения:
– Мне достаточно будет небольшого полотенца, чтобы завернуться. Если еще найти резиновые тапки, тогда вообще все в порядке.
– Сейчас найдем.
– Не найдется ли у вас еще и купального халата, такого как у Его Высокопреосвященства? Было бы вообще идеально, – главный инженер разрешил себе сказать и это.
– Другого цвета. Кардиналам дали белые. Вот так, Ваше Высокопреосвященство. Когда войдете, можете халат снять и повесить на вешалку.
– Пожалуй, возьму одно из ваших полотенец, Ваше Высокопреосвященство, – добавил Назалли Рокка, – завернусь, когда сниму халат. Зависит, конечно, от температуры в сауне и от пара. Если мои люди сработали правильно, должно быть, тепла будет достаточно, чтобы снять халат.
– Они сработали замечательно, – подал голос один из монсеньоров, – кардиналы с Востока подтвердили, они-то разбираются, – температура идеальная.
– Ну что ж, пошли, а то уже поздно.
– Конечно, Ваше Высокопреосвященство.
Старый кардинал и главный инженер вышли из своих кабинок. Первым – Назалли Рокка, бедра которого уже были обернуты в полотенце сливового цвета, на ногах тапки.
Казалось, в помещении было вполне тепло; издалека тихо звучала музыка, органная музыка, же не раз слышанная, может быть Гендель, может быть его «Мессия»,[41] но возможно и что-то другое. Через десять минут открылась другая дверь и вышел Веронелли, укутанный в свой белый халат, на ногах такие же тапки, чуть большего размера.
– Послушайте, для благословения я приду, когда никого здесь не будет. Если не смогу при моей занятости в эти последние дни, придет монсеньор Аттаванти. Инженер, не холодно ли?
– Нет, мне хорошо, Ваше Высокопреосвященство.
– Покажите дорогу, монсеньоры.
– В эту сторону, пожалуйста.
Небольшая группа направилась в глубину зала, к крутящейся двери. Музыка, звучавшая за этой дверью, стала громче. Монсеньор из Уганды прошел первым, потом Назалли Рокка, за ним уже нерешительный камерленг.
Внутри было влажно и полутемно. Оно и лучше, тут же подумал кардинал, так их не узнают. Его сердце громко стучало, на секунду ему захотелось вернуться назад, он даже обернулся и взглянул на крутящуюся дверь. Но уже кто-то осторожненько коснулся его руки.
– И вы здесь, дорогой Владимиро?
Перед ним в распахнутом халате, едва держащемся на плечах, стоял маленький круглый человечек, едва различимый в тусклом свете. Из дверей, которые то открывались то закрывались, вырывался густой пар, закрывавший целиком присутствующих, и коснувшегося его руки человека невозможно было узнать, но Веронелли по голосу определил, это был Челсо Рабуити.
Все скрывалось в подозрительной полутьме, прикрытой еще и густым паром. Перед камерленгом лишь движущиеся белые тени, и только музыка звучит все громче и громче. Да, несомненно, это «Мессия» Генделя, самая прославленная часть – «Аллелуйя», кто-то прервал пасторальную симфонию, чтобы прозвучал только финал.
– Дорогой Владимиро, это для тебя; прошел слух, что ты будешь сегодня здесь, и…
Веронелли, успевший вспотеть, не знал, куда девать глаза. Начиная привыкать к полутьме, он обнаружил здесь многих членов конклава нагих, как Господь, какими Он их сотворил; по баритону узнал Сиро Феррацци, архиепископа из Болоньи.
Те, что носят здесь белые халаты, никак не напоминают ему, в этой похожей на сон атмосфере, ни самих себя, ни одеяний высокого достоинства, которые они носят днем. Размеры пурпурных одеяний готовились в соответствии с физическими данными кардиналов.
Жара спала. Пояс сполз, и халат свободно повис на плечах. Ему казалось, что на нем свинцовая позолоченная шапка – та же, что в «Божественной комедии», с ее ужасной температурой, изводившей лицемерных.
– Тебе нужно пройти туда, в финскую сауну, – пригласил его голос Рабуити.
– Назалли Рокка… Где он? – умоляюще спросил камерленг, чувствуя себя потерянным и неспособным ни на что без того, кто бы его вел; без человека, который своими метаморфозами проводил камерленга в этот корпус, где надо было раздеться и принимать пар: единственный свидетель, который в этот момент мог его успокоить и убрать подальше сомнения, что живет он сейчас в самом тревожном в своей жизни кошмаре.
– Ваше Высокопреосвященство, я здесь, позади вас. Вы меня не видите?
– Теперь да, теперь да! Боялся Вас потерять.
Ах, когда выйду из этого приключения, то первое лицо, – мелькнуло в его беспокойной голове, – с которым встречусь, это ведь будет Пайде: из-за него весь этот сыр-бор… Кому можно признаться в своей вине? Кто мог бы облегчить его совесть, что в Апостолическом дворце устроили место для поправки здоровья, бани? И как это возможно, чтобы его собратья бродили там, внутри, как тени серафимов из рая… Зазвучал кульминационный момент финала «Аллелуйя»… Как они могут быть здесь под эти восхитительные аккорды? Он всегда эту «славу алтарю» слушал в одиночестве или в самые торжественные дни, одетый в роскошные одеяния, обшитые благородными геммами и золотом, под митрой, вышитой золотом, когда, сопровождаемый двумя епископами, совершал благословение. Теперь же – музыка звучит, а все люди нагие. И усталое тело вынуждало его раздеться, минуя все приличия… И эта белая одежда, эта белая одежда на нагих или полунагих телах! Но если такая жара уже в прихожей, какая же ожидает его внутри? За той дверью, вероятно, никто не может дольше быть в халате… И окончательно растерявшись, он все-таки сказал:
– Назалли Рокка, нет ли тут и турецкой бани? Проведите меня туда, пожалуйста.
– Хорошо, пройдите вот здесь, так, сюда, откуда впервые пошел пар…
Следуя за Назалли Рокка, он взялся за круглую ручку одной из дверей светлого дерева.
Полутьма оседала, искусственный свет стал голубеть, не понятно было, откуда хлещет вода, тем более что пар не позволял рассматривать всякие подробности. Вдоль трех сторон широкой комнаты стояли специальные сиденья, некоторые из них уже были заняты обнаженными людьми. Во всяком случае, хоть эти богохульные одежды исчезли. Но кто они? Увидел, что некоторые из них поднялись на ноги. О Боже, кажется они меня узнали и… Вот и последние ноты «Аллилуйи»…
– Какая честь, Владимире.
– Милости просим, милости просим, дорогой Владимиро.
– Какое удовольствие видеть тебя здесь.
– Устраивайся с удобствами, устраивайся, садись, пожалуйста, – и он узнал мелодичный голос Матиса Пайде.
Вот и Назалли Рокка приглашает его сесть рядом с ним:
– Расслабляйтесь, Ваше Высокопреосвященство, хорошая турецкая баня помогает отдохнуть усталому телу. Садитесь сюда, поближе ко мне, сбросьте халат; здесь достаточно только полотенца на бедрах, освободитесь, движения должны быть свободными, вот так.
Он уговаривал камерленга, как ребенка, с трудом преодолевая последнее его сопротивление. Веронелли сел рядом с Назалли Рокка и успокоился, тем более что его обволакивало тепло, поглаживала жара, ритмически поступавшая из трех отдушин снизу. Все еще звучал Гендель, но теперь произведение перешло в свою медленную часть, далекую от триумфальных интонаций. И приятно было следить за нотами, переходящими в крещендо, он потихоньку впадал в забытье, и последние тени, мучившие его, тихо-тихо уходили…
Крысы, их нападение, их уничтожение. Коты, крадущие мясо в городе, будут защитниками Ватикана. Новости извне, телефонные разговоры с сильными мира сего, беспокоящие его. Они не уважают утреннее голосование. Оживление и следующая полемика о палестинской кандитуре… Все постепенно куда-то уходило, и не оставалось ничего, о чем можно было пожалеть, – только продолжать дремать, раз его старое семидесятивосьмилетнее тело так отзывается на перерыв в этом ужасном конклаве…
Сквозь туман пара он различал Пайде; даже обида на этого человека исчезла и оставляла место для чего-то другого, более похожего на сострадание и сообщничество.
«Радость затворничества…» – вспомнил слова северянина.
– Нужно помогать чувствам распознанию этой радости, – сказал он тогда…
И камерленг удивился тому, что уже не обращает никакого внимания на взгляды, на те взгляды, которые время от времени кидают на него окружающие, что больше всего заставляло его дрожать в таком месте, как это. Он закрыл глаза: нет никакого желания и самому смотреть, да и гоняться за законами реальности, хватит анализировать и следовать за свободными ассоциациями ума, он больше не камерленг, он – никто…
Открыл глаза, различил медленный и мягкий голос одного из франкоговорящих кардиналов, тот рассуждал о подсчетах голосов и о том, что сам голосовал бы, вместе с другими испанцами и французами, за примата Испании…