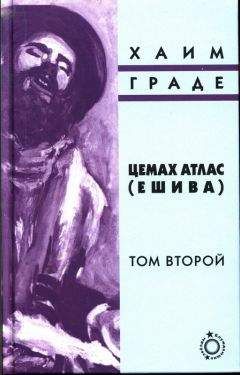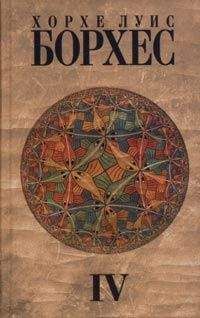Роберто Пацци - Конклав
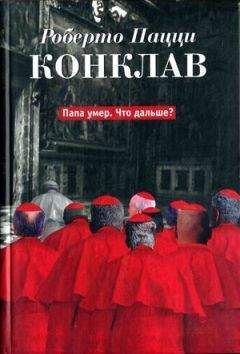
Обзор книги Роберто Пацци - Конклав
Роберто Пацци
Конклав
Этот роман – плод фантазии автора. Имена, типажи и ситуации – продукт авторского воображения, поэтому любые ассоциации персонажей и описанных в книге коллизий с действительностью возможны лишь по чистой случайности.
Только безумный может взглянуть прямо на солнце
Рита Маццини1
Трудно было понять, который час; почти всю ночь ему чудилось, что наступил рассвет. Наверное, потому, что в его комнату проникал свет из окна напротив. Он встал, подошел к окну и увидел в доме на противоположной стороне странные тени, перемещающиеся за матовым темно-желтым стеклом. Теням аккомпанировал пес, протяжный вой которого попадал в такт их движениям. Стараясь обратить на себя внимание, он выл все жалостливее и жалостливее. Казалось, пес призывает кого-то: то ли не известных ему гостей за тем окном, то ли живущих на верхних этажах. Он посмотрел в узкий и мрачный двор, различить пса не смог, но знал – он внизу.
Зазвонившие колокола заглушили наконец скорбный вой собаки. Звон означал наступление нового дня в Риме. Это было время утренней мессы. Он не сомневался, что во время службы и у священника, и у молящихся, кроме всего прочего, нет-нет да и возникает вопрос о том, как завершится конклав в Ватиканском дворце.
Но не все его коллеги, прославленные гости, занимающие то же крыло Апостолического дворца, что и он, мучились бессонницей.
Однажды утром он, самый молодой примат[1] из Ирландии, недавно ставший кардиналом,[2] последует за ними в Сикстинскую капеллу.[3] И тут же кое-кто из тех, кто склонен к предчувствиям, получит знак свыше – предпочтение отдадут ему, и на самом деле избранному в этот день. Не доверяя результатам голосования, проверяли дважды.
Тот его визит в Апостолический дворец… нет, это был не сон, но ощущение появившейся тогда слабости во всем теле осталось до сих пор.
На последнем конклаве, проходившем в тех самых комнатах, где всё свершалось так быстро, господствовал кардинал из Мадрида Овиедо – только двое из выживших сейчас могли помнить его, одного из древнейших: надо было видеть, как он старался удержать открытыми слипающиеся глаза.
В те времена Рим был совсем другим – он, казалось, не реагировал на свой собственный шум, который так легко долетал до апартаментов Ватикана.
– Если найдешь восковые «затычки» для ушей, как у меня, проблема шума сразу разрешится, – стараясь, как всегда, быть ироничным, сказал палермский кардинал Челсо Рабуити, к которому он пришел послушать последние новости о пожилом испанском коллеге.
Откуда ему знать, кто живет там, за матовыми стеклами?
Нет, понять это невозможно, правда, ему известно – второй этаж той части дворца чаще всего отводят исключительно итальянским кардиналам. Они активны, общительны и резвы – на бегу, между двумя днями голосования, согласовывают, кто за кого. Известно стало, что о потере «папского» веса у итальянцев прошелестел однажды и один из высоких политиков, с большим чувством настаивая на национальном компоненте в Священной Коллегии:
– Пусть даже с Юга, пусть даже старого, но, пожалуйста, Ваше Высокопреосвященство, выберите итальянца. Италия ни одной стране в Европе ни в чем не может быть соперницей. Должна же страна жить надеждой на… Изберите итальянца…
Вспомнился пример из фантазмов далекого прошлого. Пужина, кардинал из Кракова, был удален из конклава на основании вето австрийского императора, и папой тогда стал Сарто.[4] Вмешательства же современных итальянских политиков только косвенные: трудно представить, чтобы кто-то из них имел влияние на Ватикан.
А беспокойные тени с нечеткими формами все же жили в ночи. Двигались, напоминая театр теней, в котором всегда есть намек на реальную жизнь, где существует стремление к власти, заводятся важные знакомства, наблюдаются вспышки раздражения и ярости, где живут соблазны и кипят страсти, где все творится как бы в иной реальности, где, наконец, само слово может означать что угодно, в том числе и тайну, и заговор, и молитву.
И не только в той таинственной комнате мечутся тени. Они живут и в других домах, если подумать. Миллионы простых жителей в этой половине мира спят, им снятся сны, в другой же части света люди же встали и побежали, напоминая муравьев в их сумасшедшей деловой суете. Потом эти половинки мира меняются местами: спят те, кто целый день были в бегах, и, наоборот, – бегут те, что отдыхали и видели сны.
Поражало неумение представить отсутствующих, даже своих близких. С ними, живущими теперь далеко, и встретиться-то было трудно. Тоска по родным вызывала острое чувство одиночества. Потому-то он так любил рассматривать их фотографии, любил телефонные разговоры с ними. Двигающиеся тени – они беспокоят его и не дают вернуться в постель. И все-таки любопытно – кто же выйдет из этих дверей?
По абсолютной тишине в соседней комнате он понимал, что капеллан,[5] его секретарь, все еще спит. Будить Контарини не хотелось. Посмотрел на телефон. Позвонить Кларе, своей сестре, в Болонью? Но в такой ранний час разве кого можно беспокоить? А как же узнать, сдал ли Франческо экзамен по конструкциям: уже дважды мальчик просил молиться за него. Посмотрел на фотографию в серебряной рамке – Франческо со своей матерью, не оставляющей его одного никогда, даже на фото. Надо же, как он вырос, – и стал меньше похож на отца. Впрочем, и не на меня; в мальчике появилось что-то от бабушки и моего брата, бедного Карло, – нос или рот, когда смеется. Ах, эти дяди, внимательно изучающие признаки общей крови, – кто и что знает об этой тайне…
Он снова лег, заставляя себя остаться в постели еще ненадолго. Только пять утра – до семи нельзя даже и заикаться о мессе. Может быть, помолиться? Иначе приходят все эти фантазии о тенях напротив да о сходстве с племянником. Кто только не просил его: «Баше Высокопреосвященство, помяните меня в своих молитвах» И почти каждый из просящих доверял ему свои тревоги, секреты и душевную боль.
Посмотрел на позолоченную скамью для молитвы с красной подушкой на подставке для колен, стоящую перед распятием, на мебель, что должна была быть одинаковой в каждой из ста двадцати семи келий кардиналов конклава. Начал думать о своей позе, о своих жестах во время службы, об облачении, черном и красном – обо всем, что было нужно для молитвы, – нет, пожалуй, добавить тут нечего. Стал разглядывать картины на бочарном[6] своде, порадовался позолоченным дверям, облицовке шкафа, что содержал маленький алтарь для мессы, решил: можно помолиться и лежа.
Взял четки, начал читать молитвы за тех, кто просил и более всего мучился. Мать – за двадцатилетнего сына, умершего от рака. Отец – за двух дочерей-наркоманок, которых, после того как они пропадали целый год не известно где, наконец нашли и поместили в центр реабилитации. Вдова – за саму себя, оставшуюся в одиночестве, без всякой сторонней помощи. Мэр города и президент большого промышленного объекта, не имевшие мужества открыться ему и ответить разумно, со смыслом, на ряд его вопросов. Что их мучило – чувство ли вины, связанное с превышением власти, ужас ли перед раскрытием их «неправых» дел и опасность в связи с этим быть втянутыми в какой-нибудь скандал?
Вспомнив прихожан в своих молитвах, он перешел затем к осуждению мутного и беспорядочного зловония, подлости, порока, слабости, эгоизма – всего, что являлось неотъемлемой частью человеческого существа, любого человека, такого, например, как он, да и тех теней, вероятно, что мелькали за матовым стеклом. Странно, но и теперь он не был способен замолвить словечко за всех, кого любил. Знал, что единственная сила, которая может противостоять дурному, – любовь. И это чудо – любить кого-либо более, чем самого себя, – еще не пришло. Придет?!
Посмотрел на распятие, черный и изогнутый предмет, – произведение скульптора XVIII века, который хотел запечатлеть всю экспрессию действа во фламандском стиле, а может, и в более нордическом. Грудная клетка открыта, кости цвета кожи, тело напряжено и изогнуто дугой, лик искажен мукой боли, набедренная повязка смещена и изодрана, как будто налетевший ветер разорвал ее на части. Нечто похожее он уже видел раньше, в музее европейского города Стокгольма, далекого от классического искусства. Отвел глаза. Нет, не мог он молиться перед этим распятием.
Положил четки на комод. Закрыл глаза. Может быть, пропеть псалом Ave Maria[7] – это помогло бы ему заснуть. А ведь это превратилось же в привычку – чтобы избежать чего-то, что ему не нравилось, он уходил в сон. Но, может быть, будет лучше окончательно проснуться, встать, выйти из кельи и пойти на мессу?