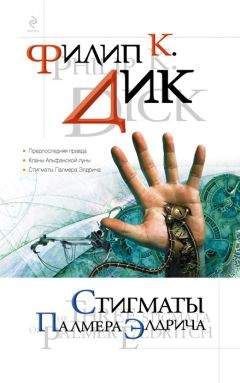Филип Рот - Профессор Желания
Я спрашиваю у Элен, каково это — вернуться сюда. К тому времени мы уже сбежали с вечеринки и сидим друг против друга в ближайшем баре. В отличие от меня, она покинула своего спутника совершенно открыто. Если я захочу ее… Но захочу ли я? Нужно ли мне такое? Лучше послушаю для начала, чего это стоит — вернуться туда, откуда когда-то сбежал. Мой собственный опыт, разумеется, несколько иного рода: возвращение к учебе означало для меня скорее возрождение, чем крушение, да и отсутствовал — то я (в метафизическом смысле в том числе) всего какой-то год.
— Ну, знаешь ли… Я заключила перемирие с бедняжкой мамой, а мои сестры — они совсем еще девочки — ходят за мной по пятам, как будто я стала кинозвездой. Вся остальная родня пребывает в недоумении. Хорошие девочки из семей, в которых все голосуют за республиканцев, так себя не ведут. Не считая, правда, того, что именно на таких-то пай-девочек я и наталкивалась повсюду, куда бы меня ни заносило, от Непала до Сингапура. Нас таких, знаешь ли, целая небольшая армия. Я бы сформулировала так: как минимум половина девиц, оседлавших волну «по дороге в Мандалай»,[16] родилась и выросла в Лос-Анджелесе.
— И чем же вы теперь занимаетесь?
— Ну, для начала мне пришлось отучиться плакать. Первые месяцы по возвращении я только и делала, что плакала, изо дня в день. Сейчас с этим вроде бы покончено, однако, просыпаясь по утрам, я, честно говоря, чувствую себя так, что, наверное, легче было бы заплакать. Потому что там все было таким прекрасным. И жизнь в ослепительном великолепии всего вокруг — это, скажу я тебе, нечто особенное. Мне там ничто не приедалось, я вечно пребывала в волнении, с самого первого раза. Каждой весной я непременно отправлялась в Ангкор, а в Таиланде мы переносились из Бангкока в Чиангмай вдвоем с одним тамошним князьком, у которого имелись собственные слоны. Посмотрел бы ты на него в обществе целого стада! Маленький золотисто-коричневый старичок, подобно пауку переползающий от одного исполинского животного к другому. В ухо любого из этих слонов моего князька можно было преспокойно завернуть, причем дважды. И все эти колоссы трубят и ревут, а он невозмутимо разгуливает посередине.
Увидев такое, ты бы все сам понял; я хочу сказать, увидев хотя бы это. Впрочем, дело тут не в тебе. Это я сама думала тогда, будто все поняла. Я ходила на лодке под парусом — уже в Гонконге, — ходила в одиночку, забирая по вечерам дружка с работы. Утром он отправлялся в офис тоже под парусом, но с утра правил лодочник; а вечером я ходила сама, и возвращались мы вместе, деловито прокладывая себе дорогу между джонками и противолодочными кораблями военно-морского флота США.
— Что ж, это называется жизнь в старом добром колониальном стиле. Не зря же закат океанических империй вызывает такое озлобление в бывших метрополиях. Но я все еще не до конца понимаю, почему вы объявили о роспуске вашей личной империи.
И еще несколько недель я по-прежнему этого не понимаю — вопреки миниатюрным буддам из слоновой кости, вопреки яшмовым браслетам, вопреки похожим формой на петушков опиумным кальянам, которыми заставлен ее ночной столик, не понимаю, что именно так, и только так, она и жила раньше. Чиангмай, Рангун, Сингапур, Мандалай… почему уж тогда не Марс, почему не Юпитер? Разумеется, я допускаю возможность того, что все эти места существуют на самом деле, а не только в географическом атласе, по которому я пытаюсь отследить эротические маршруты Элен (точь-в-точь как отслеживал эротические маршруты Биргитты по лондонскому телефонному справочнику), и в романах Конрада,[17] где их названия впервые попались мне на глаза, и сознаю поэтому, что люди, удалившиеся в добровольное изгнание на загадочный Восток, не похожи на нас с вами… Так что же мешает мне поверить, что Элен всего-навсего одна из таких добровольных изгнанниц? То, что я теперь с нею? Может, в картину не вписываются ее серьги с крупными брильянтами? Или форменное ситцевое платьице (не раз уже стиранное) скромной технической сотрудницы одной из университетских кафедр?
Ее красота, безупречная и безмятежная, меня даже настораживает; вернее, не сама красота, а серьезность, с которой Элен за ней следит — за глазами, за носом, за горлом, за грудями, за бедрами, за ногами; даже ступни и пальцы ног не оставляет она тщательной и чуть ли не благоговейной заботой. Откуда вообще берется эта величавость, это аристократическое достоинство, источаемое, как может показаться, даже не столько всем обликом, сколько отдельными атрибутами красоты: гладкой кожей, длинными руками и ногами, пышным ртом и широко расставленными глазами, бороздкой на самом кончике носа, который она, не поведя и бровью (над подведенным нежно-салатным карандашом веком), невозмутимо именует фламандским? Подобное отношение к собственной внешности со стороны представительницы пола, порой именуемого прекрасным, для меня в диковинку. Известные мне прежде молодые женщины — начиная со студенток в Сиракьюсе, которые не шли «на телесный контакт», тем более «на таком уровне», и заканчивая Биргиттой Сванстрём, воспринимавшей собственное тело как экспериментальную лабораторию для извлечения оргастических ощущений, — не придавали особого значения тому, как они выглядят, или, по меньшей мере, старались и вида не показать, что это их заботит. Разумеется, Биргитта прекрасно понимала, что короткая стрижка и вечная растрепанность самым выигрышным образом подчеркивают присущую ей шаловливость, но в остальном собственная внешность ее не интересовала, она даже не красилась; разок глянет на себя в зеркало с утра — и довольно. А Элизабет, обладающая ничуть не менее пышными волосами, чем Элен, сплошь и рядом ленилась их даже заплетать в косы и носила распущенными, как какая-нибудь шестилетняя девочка, которую еще ни разу не стригли. Для Элен же ее великолепные волосы (рыжеватые, как шерсть ирландского сеттера) были своего рода короной, нимбом или мандорлой,[18] и роль их заключалась не просто в том, чтобы привлекать и очаровывать, но и в том, чтобы выражать, подчеркивать и символизировать. Возможно, это послужит разве что лишним доказательством моей тогдашней зашоренности, чтобы не сказать одержимости (а не исключено, дело все же заключается в ауре великолепной и осознающей собственное великолепие куртизанки или, вернее, гетеры, неизбежно становящейся предметом всеобщего поклонения, словно она не живая женщина, а сорокакилограммовое изваяние из яшмы), однако каждый раз, когда она нанизывает на руки десятки браслетов и стягивает талию поясом красного шелка, как Кармен, — и все это только для того, чтобы сходить в лавку за апельсинами на завтрак, — впечатление я получаю неизгладимое. В буквальном смысле слова неизгладимое. Едва расслышав первый зов плоти, я стал страстным поклонником женской красоты, и все же в случае с Элен я был не только заинтригован, восхищен и возбужден, но и в некотором роде напутан; в глубине души, на самом ее дне, я терзаюсь сомнениями и трясусь от страха; властность, с которой она являет миру и презентует как нечто эксклюзивное, чтобы не сказать уникальное, свою неповторимую прелесть, просто-напросто подавляет меня; при всей моей подозрительности к ее прошлому, к местам ее былой славы я понимаю, что в собственном воображении она возносится еще выше и дальше. Порой, правда, это самоощущение неотразимой победительницы кажется мне в ней чертой скорее банальной, однако сама эта банальность восхитительна и, разумеется, притягательна. Она самого высокого о себе мнения, думаю я, и по праву!
— А как же все-таки получилось, — спрашиваю я (потому что по-прежнему продолжаю задавать вопросы, все еще пытаясь разобраться в том, велика ли доля фантазии в рассказах этого воистину сказочного существа и во всей той ориентальной романтике, которую Элен выдает за свое прошлое), — как же все-таки получилось, что ты, Элен, отказалась от шикарной жизни в колониях?
— У меня не было выбора.
— Из-за наследства? Из-за предварительных условий, которыми получение наследства было обставлено?
— Послушай, Дэвид, о чем ты говоришь? Какое наследство? Вшивые шесть тысяч в год. Даже здешние преподаватели, поневоле сидящие на хлебе и воде, зарабатывают наверняка не меньше.
— Тогда, может быть, ты наконец осознала, что и молодость, и красота — товар, так сказать, скоропортящийся?
— Послушай, я была практически ребенком, учение ровным счетом ничего для меня не значило, а семья… Семья у меня была как у всех: славные, скучные, глубоко порядочные люди, не смеющие высунуть голову из-под панциря, а панцирь их все эти годы располагался по адресу Мэнор-роуд, дом восемнадцать, в Ферн-Хилл. Единственная радость, нет, даже не так, единственный повод для всеобщего волнения — совместная трапеза. Каждый вечер, когда дело доходит до сладкого, отец спрашивает: «И что, это весь десерт?», и, едва услышав это, мама разражается горьким плачем. И вот в восемнадцать лет я знакомлюсь со взрослым мужиком, он великолепно выглядит, он умеет говорить, он знает тысячу вещей, которым способен меня научить. А главное, он понимает, чего мне хочется, а все остальные не понимают или делают вид, будто не понимают, и подходы у него, знаешь ли, элегантные, и он отнюдь не грубый насильник — знавала я потом и насильников; и, естественно, я в него влюбляюсь; проходит всего две недели — и я в него влюбляюсь; да, такое случается, и, кстати, не только с первокурсницами; я влюбляюсь в него, и он мне говорит: «А почему бы тебе не отправиться со мной на Восток?» И я отвечаю согласием — и отправляюсь!