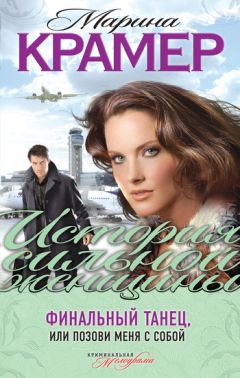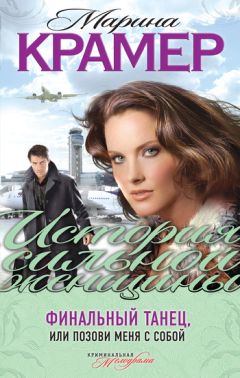Игорь Сахновский - Острое чувство субботы. Восемь историй от первого лица
Мама исчезала как-то постепенно. Сначала она долго болела дома, потом её увезли в больницу, а из разговора отца с кем-то взрослым я узнал, что её разрезали и тут же зашили, обнаружив запущённый рак. Насколько мне известно, отец не навещал маму в больнице — он как будто сразу её мысленно похоронил. Но вот что я не могу разгадать: почему я, девятилетний, сам не порывался навестить больную, не просил отца отвезти меня туда, где она лежала? В конце концов, не поехал на трамвае самовольно в отдалённый район, в тот онкологический диспансер, а продолжал гулять в пределах разрешённого мне двора. Никогда я этого не пойму и не прощу себе. После материной смерти отец привёл домой тётю Надю, которая прожила у нас два года и запомнилась тем, что научила меня пришивать пуговицы к рубашке, а перед уходом сказала отцу: «Ты клоп».
Ещё я вспомнил, как однажды в День города мы гуляли с Алёшей и Ларисой по центру и по набережной. Алёша, которому шёл тогда седьмой год, нашёл на тротуаре некрупную купюру, почувствовал себя богатым и захотел немедленно раскошелиться. Он застревал у каждого прилавка с сувенирами, долго размышлял, сомневался, уходил с сожалением, пока не прилип накрепко к лотку со статуэтками из пластика и стекла. Сначала он купил себе черепашку-ниндзя, истратив половину суммы. Потом осведомился у матери, что ей нравится больше всего. Лариса ответила: «Вот эта птичка». Тогда Алёша попросил нас отойти в сторонку и не подглядывать, что он будет покупать.
От лотка он ушёл с блаженным и загадочным лицом. По пути домой предупредил Ларису: «Я там кое-что купил… Но смотреть пока нельзя, даже не проси! Придётся подождать!» И, хотя она молчала, он через пять минут строго сказал: «Наберись терпения! После увидишь!» Лариса предложила положить мешочек с его покупками к ней в сумку, он возразил: «Ты хочешь тихонько подсмотреть? Тебе не терпится? Всё равно жди!» Когда мы переходили через мост, поднял свой мешочек над водой и пригрозил: «Вот я сейчас уроню в речку, и вы никогда не узнаете, что там было!» Лариса, подыгрывая ему, упрашивала не бросать мешочек в воду. Он сжалился, но ещё раз десять повторил: «Терпи, скоро узнаешь, надо подождать!» И уточнил на всякий случай: «А тебе правда понравилась эта птичка?..»
Кончилось тем, что, вручая статуэтку, Алёша выронил её и вдребезги разбил.
В следующий понедельник главный редактор позвал меня в кабинет и сообщил, что интервью, которое я взял у госпожи Нахимовой, газета печатать не будет. На мой вопрос: «Почему?» он сказал: «Сам подумай» и постучал средним пальцем по виску.
После обеда я позвонил в журнал «Beauty of Beauty» и спросил, получена ли моя статья о салоне «Бельэтаж». Да, статья получена, хорошая статья, но журнал не сможет её напечатать. На мой вопрос: «Почему?» мне было отвечено, что я вообще не вписываюсь в их стилистический формат.
К вечеру я зачем-то ввязался в разговор Димы Пинаева и Даши Рукенглаз о литературе. Сначала всё было достаточно невинно: Дима, разбирая читательскую почту, заметил, что в газету стали присылать слишком много самиздата. Он имел в виду книжечки или брошюры, которые авторы-непрофессионалы выпускают за свой счёт. Самиздат можно легко узнать по дилетантскому оформлению обложки, крошечному тиражу и чаще всего наивному содержанию. Даша говорила: «Тебе жалко, что ли? Человек напечатал за свои деньги и раздал двести экземпляров знакомым и друзьям». Дима ругался: «Нет, графоману этого мало. Он ещё в газеты посылает, чтоб его публично расхвалили!»
Потом сменили тему и заговорили о Набокове. Даша только что прочитала раннюю повесть «Волшебник», с которой начиналась «Лолита», — и там, и там страсть взрослого мужчины к 12-летней девочке. Я неосторожно спросил: «Может, у него идея фикс такая была? Или вообще мания, вроде педофилии?»
Они меня одарили презрительными взглядами и вернулись к роскоши человеческого общения, причём в таком тоне, будто я уже ушёл. Да, мол, бывают несчастные маленькие люди, которые судят о шедеврах со своих плинтусных позиций. Дима ещё пошутил, блеснув эрудицией: Беатриче тоже, наверно, жертва педофилии — в неё поэт влюбился, когда ей было восемь или девять лет.
Во вторник я проснулся очень рано, вышел на кухню и увидел Ларису, которая сидела в уголке, отвернувшись лицом к окну. Глаза у неё были на мокром месте. Ответа на вопрос: «Что случилось?» я добиться не смог. Только сильнее заплакала, и сквозь тяжёлые всхлипы до меня донеслось признание, что любви больше нет, и ничего больше нет, и уже ничего не будет. Я попробовал напоить её чаем, но она сказала: «При чём здесь чай?»
На работе мне сказали, что перед моим приходом звонила секретарша господина Федюшина и уведомила: Геннадий Ильич сегодня во второй половине дня заедет в редакцию — конкретно ко мне. Кое-кого эта новость почти шокировала, коллеги смотрели на меня с научным интересом.
Ближе к середине дня нам, наконец, выдали зарплату, и, дождавшись обеденного перерыва, я пошёл в салон связи купить смартфон. Юноша-консультант попытался меня запутать словами «андроид» и «симбиан», но я попросил показать самое лучшее из того, что у них имеется. Денег мне хватило впритык.
Потом я позвонил с работы сыну Алёше и спросил, нравится ли ему такая-то модель (название прочёл на коробке). Алёша со знанием дела пояснил, что смартфоны теперь уже полный отстой, а настоящая крутизна — это айфон.
По случаю ожидаемого визита высокого гостя главный редактор приказал сделать в кабинетах и в коридоре сверхплановую уборку.
В три часа дня Федюшин ещё не приехал.
Не появился он и в четыре часа.
До этого дня я не разрешал себе фантазий на тему: что такое благодарность олигарха в конкретном, материальном выражении. Ну, если быть честным с самим собой… Буквально крошки от его щедрот мне хватило бы выше головы! Ведь когда у человека столько мучительных бытовых проблем, столько прорех во всём, выручила бы даже очень скромная денежная помощь. Но он-то сказал: «по гроб жизни обязан» и «достойно отблагодарю»!.. Нет, я даже не мечтал, допустим, о возможности сменить нашу микроскопическую квартирку — это было бы слишком жирно. Но, может быть, удастся всей семьёй поехать отдохнуть на тёплом море, ведь не были ещё нигде.
Без пятнадцати пять кто-то сказал: «Едет».
Сначала в коридоре прозвучали весомые шаги охранников. Потом наша редакционная комната в один момент опустела, и я остался сидеть у своего стола, в нелепой, кажется, и неудобной позе.
Федюшин вошёл, догоняемый редактором и его секретаршей, не глядя пожал мне руку, нам тут же принесли две чашки кофе и ушли, оставив один на один.
Мы пили кофе не дольше трёх минут, в течение которых Геннадий Ильич как-то очень громко и возвышенно говорил о взаимопомощи и пожизненной человеческой благодарности, но я был как пьяный, и в голове не задержалось почти ничего. Помню только, что он вертел в руках свёрток размером с небольшую книжку, в подарочной бумаге с блёстками. И, уходя, вручил мне, добавив пару слов об «истинных ценностях» и «самом дорогом».
Потом я пошёл в туалет, пошатываясь, а когда заперся в кабинке, обнаружил у себя в руках этот свёрток вроде книги, содрал три слоя золотой, металлизированной бумаги, под ней и была книга, вернее сказать, то, что старательно книгой притворяется, авторский самиздат, печатное бессмертие за свой счёт.
Надпись на обложке: «Геннадий Федюшин. Мои афоризмы».
Крупным шрифтом на первой странице: «Жизнь — как крутая дорога, у ней свои ухабы и кардоны, которые надо прошагать, чтобы не было мучительно больно!»
Пролистнул страниц двадцать: «Кто с бабами не спит, тот болван и всё проспит!»
Я аккуратно положил афоризмы в мусорный бак и вышел из кабинки.
Слева от умывальника в запылённом окне можно было видеть, как очень худая чёрно-сизая птица, поменьше вороны, гуляет по карнизу, погружённая в себя. Я не знал, как она называется, и она сама, наверно, этого не знала. Захотелось выйти скорее на воздух — тоже выбрать для гулянья какой-нибудь карниз.
В сквере имени пионеров-героев один из подростков, пьющих на скамье пиво, крикнул мне в спину: «Мужик, дай закурить!» и напомнил о Вадике, спрятанном в Святоозёрском монастыре.
Зимой, перед Новым годом я повстречаю в продуктовом магазине Веронику Адамовну, спрошу про Вадика, а она воскликнет: «Вы что, не знаете? Его уже похоронили». И расскажет: после двух месяцев разлуки с сыном госпожа Федюшина приехала к нему на свидание, ужаснулась тому, что вместо приличной уборной её мальчик ходит во двор, в холодную дощатую будку, и по этой причине увезла Вадика домой. А ещё через три месяца он умер от передозировки героина. Врачи не смогли откачать.
В переполненном вагоне метро мне опять попался на глаза тот маленький некрасивый мужчина с компьютерной клавиатурой на коленях. Он всё так же со страшной быстротой стучал по клавишам, при этом таинственно улыбался. Я бы много дал, чтобы узнать, что он там печатает. Плохо одетый, явно нездоровый психически, он очень заметно выделялся в однообразной толпе. Даже не знаю, уродство это или счастье? Многие люди чуть не полжизни тратят на то, чтобы отличаться от всех, хоть на полсантиметра выдвинуться из людской массы, а этот, неказистый, из неё прямо торчит. Причём он абсолютно не тревожится, будет ли его текст напечатан в книге или журнале, впишется ли в какой-нибудь формат.