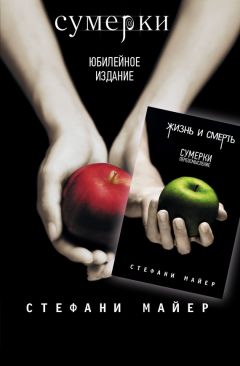Александр Фурман - Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть IV. Демон и лабиринт
Месяца через полтора Фурман, вернувшись вечером домой намного раньше обычного после очередной дружеской встречи, обнаружил, что в большой комнате за закрытой дверью происходит какой-то серьезный разговор Бори с родителями. Исключительная важность этого разговора была подчеркнута тем, что младшему Фурману – без слов, одними равнодушно-предостерегающими взглядами старших – было позволено присутствовать при нем лишь в качестве немого наблюдателя. Понимающе кивнув, он аккуратно проскользнул в комнату и сел «за сценой», на дальний конец дивана.
В первый момент самым необычным ему показалось то, что папа принимал активное участие в разговоре, и Боря – знакомо морщась и возмущенно всплескивая руками – тем не менее слушал его. Речь шла о возможном варианте устройства Бори на работу, в котором папа готов был обеспечить ему все необходимые рекомендации. Но при этом и от Бори требовались определенные морально-психологические гарантии и твердая решимость двигаться по избранному пути. Как следует все обдумав и приняв папино предложение, он потом уже ни при каких обстоятельствах, за исключением совсем уж катастрофических, не должен был отказываться, поскольку папа ручался за него перед своим начальством, ставя на кон свою личную и деловую репутацию. По всем правилам человек с педагогическим образованием не мог бы занять предлагаемую Боре должность, и главным чрезвычайно льготным условием было его переобучение по новой специальности и получение второго диплома без отрыва от работы.
Боря сидел в кресле в расслабленной позе, почти полулежа и как-то странно вжав голову в плечи. Однако его широко раздвинутые острые колени непрерывно раскачивались в каком-то быстром мелком ритме, выдавая внутреннее напряжение. Время от времени он откидывал голову назад и странно перекатывал ее из стороны в сторону, как бы в полном бессилии или отчаянии. Присмотревшись, Фурман тревожно отметил, что Боря, который и всегда был очень бледным, имеет какой-то просто полуобморочный вид. Когда он говорил, голос у него срывался, а к глазам подступали слезы.
Все это выглядело так, словно его что-то страшно напугало. Как если бы на него недавно напали на улице или он попал в автомобильную аварию. Точно понять, что именно с ним случилось, из продолжающегося разговора было невозможно. Снова и снова пытаясь объяснить – даже не столько родителям, сколько себе самому – причины своего тяжелого состояния или срыва, Боря почему-то совершенно по-детски жаловался на те чисто бытовые обстоятельства, которые он сам раньше уверенно посчитал бы второстепенными и легко преодолеваемыми простым волевым усилием. Да, за эти полтора или два месяца он так и не смог добиться никакого существенного успеха в шахматах и приблизиться к тому, чтобы получить желанное звание мастера; да, для него почему-то оказалось ужасным, невыносимым, сводящим с ума испытанием быть безработным и чувствовать себя преступником, которого в любой момент могут схватить; да, он устал считать каждый кусок хлеба и каждую копейку; и вообще, он очень устал от этого постоянного напряжения, у него сдают нервы, он находится на грани психического истощения и может вдруг, ни с того ни с сего разрыдаться прямо на глазах у людей, что с ним уже и случалось несколько раз, к его собственному ужасу… В общем, это был какой-то сплошной кошмар.
Но, на взгляд потрясенного младшего Фурмана, всего этого было недостаточно, чтобы вот так, посреди дороги отказаться от собственной великой мечты о счастье и свободе и сдаться старым врагам. (Да еще и на таких жестких условиях: работать и одновременно учиться вечерами. Ведь в конце концов, если уж так приперло, Боря легко мог отказаться от папиных предложений и пойти работать в школу на половину учительской ставки. Денег, конечно, маловато, но это же не главное! Главное, чтобы можно было продолжать идти своим путем. Но этот давно обсуждавшийся вариант Борю сейчас почему-то уже не устраивал.)
Боря был явно не в себе, в нем что-то надорвалось, и Фурману было его ужасно жалко. Но невозможно было забыть и его прежнее высокомерие и оскорбительные выпады против отца…
Ведь, как понял Фурман, реально ничего плохого с ним еще не случилось. Так что же мешает ему и дальше гнуть свою линию? Да ничего. Ничего, кроме внезапно овладевшего им дикого страха быть тем, кем он хотел. Именно этот страх его и раздавил. Видимо, Боря не учел чего-то очень важного в самом себе, какой-то своей тайной слабины, которая вдруг предательски вылезла наружу, разом разрушив все его возвышенные планы.
Сломленный страхом Боря, кажется, сделал свой выбор: отступил, отказался от себя, решил быть как все.
Что ж, значит, теперь наступает черед младшего Фурмана. И он не отступит.
В разведке
Способность легко зажигаться чужими идеями и создавать себе новых героев притягивала к Наппу и Мариничевой самых разных людей.
Однажды в квартире Наппу произошли фантастические изменения. За пару дней веселые энергичные мастера собрали в полупустой большой комнате гигантский аквариум, и на следующие полгода дом Наппу стал штабом некой паранаучной секты, которая тайно практиковала домашние роды в воду. Лидер движения Игорь Чарковский – смуглый черноволосый мужчина с вежливыми манерами, тихой невнятной речью и демонически косящим взглядом – утверждал, что возвращение в мировой океан, откуда миллионы лет назад вышло все живое, является неизбежным светлым будущим духовно и физически обновленного человечества. Основным доказательством того, что люди до сих пор остаются двоякодышащими существами, служило девятимесячное пребывание каждого человека в «раю» материнской утробы. В соответствии со своей утопической идеей сектанты не только устраивали роды в воду, но и приучали новорожденных младенцев, а также других имевшихся в их распоряжении маленьких детей (в том числе из семей сочувствующих добровольцев, к которым принадлежали и Наппу) сутками безвылазно находиться в «родной для них естественно-природной жидкостной информационной среде». Прогнозировалось, что благодаря этому небывалому опыту у новых ихтиандров вскоре откроются мощнейшие экстрасенсорные способности, и они смогут общаться телепатически, исцелять больных, проходить сквозь стены и совершать прочие чудеса. В просветительских беседах с другими гостями Наппу последователи Чарковского со скромными улыбками говорили о «подключении к ноосфере» и воздействии «космических энергий Добра». Но главным посредником между человечеством и Космосом они считали дельфинов – «вторую разумную расу нашей планеты». При правильной постановке дела человеческие роды должны были происходить не в роддомах – этих, как они говорили, «фабриках смерти», и не в тесных информационно загрязненных городских квартирах с «убитой» хлорированной водой, а прямо в море и в присутствии дельфинов. Но пока этому мешали неблагоприятные климатические условия СССР и недопонимание со стороны официальных властей.
«Юных Валериных друзей-журналистов», которые по привычке продолжали встречаться у него дома, мягко старались держать в стороне от повседневной деятельности секты – по причине, как насмешливо объяснял Наппу, их «временной бездетности и общей человеческой неопытности» (а скорее всего, из-за вполне реальной угрозы появления милиции, поскольку организация домашних родов была абсолютно противозаконным делом). Честно говоря, они были этому только рады: даже недолгое лицезрение аквариума, набитого полуголыми истеричными женщинами на последней стадии беременности, пронырливыми сопливыми мальками сверхчеловека и властными волосатыми инструкторами в подозрительно вздувшихся плавках, могло довести слабого духом наблюдателя до полуобморочного состояния…
Иногда «чарковцы» всей командой снимались с места и на неделю-другую куда-то исчезали. В один из таких тихих малолюдных вечеров Фурман с Соней Друскиной, увлеченные разговором о современной литературе, засиделись у Наппу допоздна. Им уже пора было уходить, когда в маленькую комнату, где они сидели, забрел Наппу с ласково прищуренными глазками и лунатической улыбкой Будды. Походив туда-сюда и порывшись для виду в каких-то вещичках, он вдруг спросил, не хотят ли они ознакомиться с одной замечательной книгой.
– Ладно, Наппу, не томи! – заторопила его Соня. – Признавайся, что там у тебя?
– А ты, Друскина, меня не подгоняй, а то вообще ничего вам не дам! – надулся он.
– Все-все-все, каюсь, больше никогда так не буду! – с веселой готовностью затараторила Соня.
После этой ритуальной детсадовской сценки Напп у милостиво, хотя и с нарочитой медлительностью, сообщил, что книга называется «Центр циклона», ее автор – Джон Лилли, и во всем мире этот труд считается «первопроходческим для новой науки о человеке». Правда, тут есть одно «но», сказал Наппу: в СССР книги Лилли запрещены, так что речь идет о самиздате, и его предложение они должны воспринимать как знак особого доверия – с их стороны, между прочим, пока еще ничем не заслуженного.