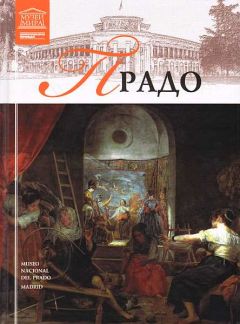Хавьер Сьерра - Хозяин музея Прадо и пророческие картины
Но самое удивительное, что Джулио Медичи решил оставить картину в Риме и отослал ее в… церковь Святого Петра в Монторио!
— Я не понимаю, доктор, — пробормотал я.
— Именно в той церкви в 1502 году, когда в Ватикане правил испанский понтифик Александр VI, кардинал соискатель, который по общему мнению должен был стать ангельским папой и следующим занять Святой Престол, впервые извлек на свет и предъявил манускрипт «Apocalipsis nova». На нем и лежит вся полнота ответственности за те страсти, что разыгрались из-за этой книги среди элит эпохи. Звали кардинала Бернардино Лопес де Карвахаль. Знаешь, почему из множества церквей Рима он избрал для церемонии эту? Потому что храм являлся местом упокоения блаженного Амадея в Риме! Это была его церковь!
— Молодой человек, музей закрывается!
Голос смотрителя вернул меня к реальности. Внезапно части головоломки, которую маэстро Фовел складывал у меня на глазах, сошлись воедино и обрели смысл. Рафаэль. Блаженный Амадей. Леонардо. Искусство как инструмент сообщения с миром потусторонних сил. Хранилище тайн Святого Семейства…
— Вы слышали? Мы закрываемся.
— Да-да. Мы сейчас закончим. Еще минуту, — пробурчал я, недовольный, что нас прервали. Как нарочно.
— Поторопитесь.
Доктор Фовел пожал плечами.
— Tempus fugit[6], — произнес он. — Но так, пожалуй, лучше. Мне представляется, у тебя достаточно материала для размышлений. Не торопись, усвой урок и возвращайся, когда захочешь. Я буду здесь.
— В зале номер тринадцать?
Маэстро улыбнулся:
— Можно и так сказать.
И вновь, не попрощавшись, маэстро из Прадо повернулся ко мне спиной. Ступая бесшумно, он исчез в глубине музея, в направлении, не имевшем выхода на улицу.
— Молодой человек, закрываемся!
— Уже иду.
Глава 5
Два младенца Иисуса
Прошло несколько дней, прежде чем у меня в голове уложилось все, что произошло во время мимолетной встречи с маэстро Фовелом. Вторая лекция доктора будто полностью исчерпала и поглотила мою умственную энергию. Тем вечером я чувствовал такое изнеможение, что рухнул на кровать, забыв не только об ужине, но и о телевизоре. Слава богу, хотя бы мой доклад о пророчествах и войне имел утром больший успех, чем я рассчитывал. Последнее просветление разума принесло мне повышение балла и самооценки. Но когда я попробовал упорядочить свои впечатления от нашей беседы — сначала в письменной форме, изложив их на бумаге, а затем в устной, поделившись с Мариной, — у меня ничего не получилось. Оказалось, что я в состоянии оперировать лишь эмоциями и мимолетными бессвязными видениями, не поддававшимися осмыслению. В итоге у меня появилось чувство, будто я пал жертвой помешательства, перенасытившись информацией и зрительными образами. И чтобы одолеть недуг, следовало сделать перерыв. Расслабиться и ни о чем не думать.
Большие надежды я возлагал на Рождество. Я имел возможность на целых десять дней забыть о музее Прадо и странном маэстро. Наступивший вскоре покой мог бы быть полным, если бы его не нарушило спонтанное, неожиданное в какой-то мере путешествие, марш-бросок в сердце Кастилии. В Турегано. Вот когда я порадовался, что располагаю собственной машиной. Там, под сенью величественного сеговианского замка, служившего тюрьмой Антонио Пересу, всемогущему секретарю Филиппа II, актриса Лючия Бозе недавно купила старую мукомольную фабрику, намереваясь в ближайшее время превратить ее в первый в мире музей, посвященный ангелам. И в этих старых развалинах, среди мешков с цементом, строительных лесов, кирпичей и чертежей, развешанных на стенах, под аккомпанемент тошнотворно-сладких рождественских песенок вильянсикос, потоком лившихся из радиоприемника, мы встретились, чтобы выпить по чашечке кофе.
Ничего мистического в той встрече не было. Ее организовал я сам, позвонив Лючии во вторник, сразу, как только вышел из Прадо. Некоторое время назад меня заинтересовало ее признание, сделанное солидному изданию в Мадриде, что она внимательно изучает работы Рудольфа Штейнера. Мое любопытство многократно возросло, когда и Фовел упомянул имя австрийского ученого. Взволнованный случайным совпадением, я оставил длинное послание на ее ответчике. Правда, я не ожидал, что Лючия откликнется столь быстро, продиктовав телефонистке в общежитии сообщение для меня: «Venite presto[7]. Лючия». Разумеется, я собрался в путь.
Моя хозяйка оказалась воплощением мечты. Лючия — «Мисс Италия 1947», звезда мирового кино, супруга легендарного тореро Луиса Мигеля Домингина, мать Мигеля Бозе и бабушка артистов — согласилась побеседовать со мной, как только разобралась, кто я такой. Год назад я опубликовал статью об ангелах в одном из ее любимых журналов. Как Лючия мне призналась позднее, она обратила внимание на имя автора статьи: «Я читаю все, что имеет к ним отношение, и запоминаю все до мельчайших деталей». Мой материал был довольно занятным. Я написал его по следам реальной истории: компания ребят из Паипорты, Валенсия, выступила в национальной прессе с заявлением, что ангелы из плоти и крови встречались с ними и передали в дар таинственную «Книгу тысячи страниц», включавшую множество пророчеств относительно нашего будущего. В своей статье я не обошел вниманием и существование еще одной группы «принимающих» во главе с представителем творческой богемы. Живописцем. Именно данное обстоятельство привлекло внимание актрисы, которую уже в то время посещали идеи о создании тематического музея живописи на ангельские сюжеты.
— Но ты сам веришь, что дети видели ангелов во плоти? — сразу спросила она, после того, как встретила, расцеловав в обе щеки, и пригласила в музей, находившийся на реставрации.
Я пожал плечами, смущенный натиском. Впрочем, очень быстро понял, что за страстной натурой и взрывным характером скрывается золотое сердце.
— Ну… Так они говорят, — пробормотал я. — А насколько их слову можно верить, не знаю.
— А вот я верю! — воскликнула Лючия, очаровательно смешивая итальянский язык с испанским, причем речь ее звучала гармонично.
— И я тоже, — откликнулся мужчина лет сорока. Смуглый, почти лысый, с умным проницательным взглядом, он ждал нас на импровизированной кухне.
— Это мой друг Романо Гвидичиззи. Я пригласила его, поскольку ты сказал, что хочешь поговорить о Рудольфе Штейнере и его теории о двух младенцах Иисусах. Романо — эксперт в этой области. Надеюсь, ты не возражаешь?
— Нет, конечно!
— Не удивлюсь, если ангел из плоти и крови вдруг появится именно здесь, — пафосно заявил он, поприветствовав меня с улыбкой, и указал на табуретку. — В Библии рассказывается, как три ангела предстали перед Авраамом, сели за стол у него в доме, ели пищу, и их видела вся семья. Почему же они не могут воплотиться тут, если пожелают?
— Вдруг это один из них, Романо? И он пришел выпить моего превосходного кофе? — пошутила Лючия.
— Certo[8]!
Втроем мы долго с энтузиазмом рассуждали, может ли невидимая сущность обрести тело. Тему я считал интересной, и весьма. Из книг, которые я прочитал после разговоров с доктором Фовелом, следовало, что данный вопрос служил поводом для глубоких внутренних сомнений Рафаэля. Известно, что мастер из Урбино в отличие от великого Леонардо не отказывался изображать сверхъестественные явления. Причем он считал, что им следует придавать ту же телесность и правдоподобие, как и любому элементу из мира зримого. Как прав был маэстро из Прадо, сославшись на Фому Аквинского как на один из источников вдохновения Урбинца. Неожиданно я осознал, что почтенный средневековый теолог пытался найти «научные», «рациональные» ответы на подобные вопросы. Он полагал, что невидимое иногда способно становиться видимым и даже осязаемым.
— О, святой Фома! — воскликнул Романо, когда я упомянул его «Сумму теологии». — А известно ли тебе, что одно время он горячо спорил с теорией другого видного богослова Петра Ломбардского, упрямого миланца — совсем как наша Лючия. Петр утверждал, что у ангелов есть тело.
— А Фома, видимо, возражал…
— Ну, не совсем так, Хавьер. Он не соглашался признать, что ангелы обладают плотью по своей сущности, но считал, что у них есть средства ее обрести при необходимости, например, явиться Марии, чтобы сообщить благую весть о беременности…
— Средства? — Я смотрел на собеседника со жгучим любопытством. — Какие?
— В «Сумме теологии» святой Фома писал, что ангелы в состоянии создать себе тело из сгущенного воздуха или из облака.
Мысль эта показалась мне знакомой. Рафаэль был первым художником новой эпохи, кто начал изображать Иисуса во славе, Бога и Святого Духа, не вписывая их в сияющий миндалевидный нимб, мандорлу, как делали средневековые иконописцы. Мандорлой обозначали присутствие божественного начала. Для верующих, видевших картины, эти знаки имели такое же значение, как для современного человека — сигнал светофора. Иными словами, мандорлы недвусмысленно указывали на божественную природу образа. Однако Рафаэль отказался от традиционного приема, используя вместо нимба эффект пронизанного светом воздуха или облаков. Вероятно, он читал святого Фому?