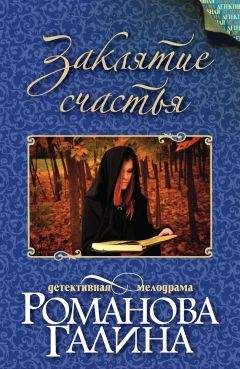Николай Нароков - Могу!
Он очень решительно переменил тон.
— Но дело не в ярлыке! Мы полчаса говорим о пустяках, а нам надо говорить о важном и нужном. Поэтому садитесь поближе, и мы поговорим по-деловому. Об этой женщине. Как заставить ее добровольно прийти ко мне? Что вы можете сказать? Но говорите прямо и серьезно, как мы всегда говорили с вами, когда говорили о деле.
Глава 9
О воробье Софья Андреевна упомянула недаром. Хотя Ив рассказывал ей о нем уже давно, его рассказ она отлично запомнила. Почему? Она сама не знала: ведь это — небольшой эпизод и — не более того.
Эпизод этот произошел за год или за два до первой войны, когда Иву было только 12 или 13 лет, когда его звали просто Федей, когда он жил еще со своими родителями в небольшом уездном городе и учился в гимназии.
Ранней весной он со своим товарищем Васей гулял на окраине неподалеку от кладбища. Снег уже почти весь стаял и лежал только в ложбинках, а прилетевшие грачи уже суетливо копошились на голых верхушках берез.
На прогулке случилось так, что Вася поймал зазевавшегося воробья: успел накрыть его фуражкой. Он запрыгал от радости, присел на корточки, осторожно засунул руку под фуражку и достал из-под нее воробья. Бережно пересадил его себе на ладонь и слегка прикрыл его другой ладонью, боясь придавить и сделать больно. Ласковость и жалость к маленькому и беззащитному существу охватили его, и он поднес свои полусжатые ладони к щеке, словно этим прикосновением он ласкал: и воробья, и себя. Воробей нервно и испуганно закопошился между ладонями, и у Васи защекотали слезы в горле, так ему стало жалко птичку.
— Выпустим его! — попросил он Федю, словно нуждался в его разрешении.
— Погоди… Дай его сначала мне!
— Только ты осторожнее… Он ведь крохотненький!
— Я… осторожно!
Вася недоверчиво (а чему он не доверял, он и сам не знал) стал пересаживать воробья в Федину ладонь. И у него мелькнула мысль: как бы нечаянно сделать неосторожное движение, раскрыть ладони и — пускай улетает пичужка! Но он не сумел или не успел сделать это движение, и Федя взял воробья. Взял, и у него сразу же стало такое лицо, что Вася насторожился, сдвинул брови и даже подался вперед, словно хотел быть готовым к чему-то.
Подражая Васе, Федя тоже прикрыл ладонь ладонью. Воробей зашевелился, царапая и ноготками, и клювом, и перьями. Он даже слегка забился между потных рук. И оттого, что он забился, такой теплый и такой живой, в Феде что-то дрогнуло: может быть, не хищное, но злое. Пальцы сами напряглись, чтобы тут же, сразу подавить воробьиное движение, чтобы не дать воробью трепыхаться. Это не было движение кошки, мускулы которой сами взметывают лапу с когтями на шевельнувшегося мышонка, т. е. не было требованием инстинкта хищника: поймать, убить и съесть. Феде не надо было убивать воробья, но ему было надо, несознательно, необыкновенно, даже слегка жутко надо, чтобы воробей не смел трепыхаться в ладонях.
И Федя слегка сжал их. Воробья немного придавило, и он испуганно притих. И то, что он притих, вызвало в Феде непонятное удовлетворение, похожее даже на радость: «Ага! Не трепыхаешься!» Но такая радость не была похожа на человеческую, т. е. на радость человека, тем более — ребенка, а до самой глубины тешила тем, что вызывала чувства, которых Федя до того не знал.
Стоял и чувствовал, что хочет, очень хочет, нестерпимо хочет сжать ладони еще крепче, еще сильнее. Совсем сдавить пичужку, так сдавить, чтобы… Чтобы — что? Он не знал ни слова «сладострастие», ни самого сладострастия, но именно оно охватило его. И он резко сдавил ладони.
Что-то дрогнуло, что-то судорожно задрожало в них, и в этой дрожи было сопротивление боли, бессилия и страха. И оттого, что воробей посмел сопротивляться своими крохотными силенками, Федя со сжатыми зубами, но безо всякого выражения на лице, крепко держал сдавленные ладони. Воробей притих, придавленный и покоренный, и Федя еще сильнее почувствовал странное удовлетворение, как будто ему только это и надо было: придавить и покорить.
И тогда он чуть ли не равнодушно разжал ладони.
Скомканный серый комочек, взъерошенный и примятый, вздрагивая и дергаясь, выпал из рук. Вася ахнул и растерянно, ничего не понимая, посмотрел на Федю, но сейчас же сделал плачущее лицо и низко нагнулся к воробью. Воробей, немного оправившись, конвульсивным прыжком прыгнул в сторону и захотел было полететь, но полететь не смог, а неровно и спотыкливо заковылял, волоча примятое крыло. Вася выпрямился.
— Зачем ты… так? — совсем не по-детски спросил он. Федя не отвечал. Он все еще прислушивался к тому чувству, которое заставило его сжать и сдавить воробья.
— Могу! — непонятно ответил он, и в его глазах появилось особое выражение.
— Что «могу»? — не понял Вася и насторожился так, словно перед ним было враждебное и злое.
— Не «что», а вообще… Могу!
Вася опять не понял, но переспрашивать не стал: Федя показался ему чужим и страшным.
Глава 10
После сближения Софьи Андреевны с Мишей прошло месяца два. И когда Миша задумывался о себе, он не мог понять: чем он стал? Но знал, что сделался другим. Вся его жизнь, помыслы и чувства, подобные диаметрам круга, пересеклись в одной точке, и этой точкой стала Софья Андреевна. Она стала не только центром, но и всем тем кругом, в площади которого помещалась Мишина жизнь.
Это не был плен, потому что плен насильственен. Плен — стража, кандалы, решетки на окнах и засовы на дверях. Плен — жажда свободы и побег под пулями часовых. Но Миша не был в плену. Он не только не рвался к освобождению, а до крови сорвал бы ногти, цепляясь, если бы его не пускали и прогоняли. И вместе с тем мучительное омерзение, подобное физической тошноте, заставляло его мяться и шептать про себя:
— Противно! Боже мой, как противно!
Упоение и гадливость переплетались в нем и все время были вместе. В самой гадливости было упоение, и вместе с тем упоение вызывало гадливость. Это было страшно. И он, уйдя в свою комнату, плакал, сжимал кулаки и бессильно проклинал.
Софья Андреевна была для него первой женщиной. Конечно и раньше, из мальчишеских разговоров и догадок, он знал тайну между мужчиной и женщиной, но то, что он знал, было понятно и заманчиво, оно влекло и обещало. А Софья Андреевна требовательно и беспощадно подвела его к тому, о чем он не догадывался и чему даже не верил: «Не может быть! Зачем это?»
Он заблудился. И то, в чем заблудился он, казалось ему лабиринтом подземных клоак, вроде тех, о которых он читал в “Les Misérables” Гюго. Близость с женщиной раньше, в полудетских мечтах, казалась ему светлой и радостной, но то, что требовала от него Софья Андреевна и что давала она ему, было отвратительно и непосильно.
— Противно! Ах, как противно!
Свои требования Софья Андреевна называла «изысканностью». Говорила про себя, что она — “raffinée” и пыталась соблазнить Мишу тем, что и он станет “raffiné”.
— Я тебя научу! Я тебя всему научу! Всему!
Однажды Миша осмелился и попробовал запротестовать:
— Зачем это? Ну, скажи, зачем? Разве нельзя… просто?
Она расхохоталась.
— Просто? А зачем мы готовим вкусные кушанья? Разве нельзя есть просто сырое мясо и капусту с огорода? А зачем мы шьем красивые платья? Ведь прикрыть наготу можно просто рогожей, а согреться можно просто под бараньей шкурой! Ты не понимаешь, глупый мальчик, что такое культура! Во всем: в философии и в стихах, в мебели и в манере говорить друг с другом. Везде и во всем должна быть культура, а в любви — особенно. Не можем же мы любить «просто», как любят собаки или как любили наши предки, когда они еще жили в пещерах или на деревьях. А кроме того…
Она замолчала, и ее помутневший взгляд остановился, как будто она смотрела на что-то и видела что-то.
— Что кроме того? — невольно спросил Миша, хотя ни о чем не хотел спрашивать и даже боялся спросить.
— Видишь ли… Я это, кажется, сама сочинила. Раньше, давно! Я ведь раньше страшной фантазеркой была, даже стихи когда-то писала. Ты не веришь? Право, писала! И любила сочинять для себя что-нибудь такое… необыкновенное! Так вот… Ты, конечно, знаешь, что Сатана соблазнил Еву. Но как он мог соблазнить ее? Чем? Познанием добра и зла? Но неужели простодушной дикарке Еве было нужно это познание? На что оно ей, если она, живя в раю, даже не знала, что такое добро и зло!.. «Если съедите этот плод, то будете, как боги»… А что могла знать бедная Ева о богах? Ведь тогда был только один Бог, которого она знала, а всех других богов люди уж потом выдумали, не правда ли? Нет, нет! Не злом и добром, не богами и познанием соблазнил ее Сатана, а любовью! Почему это ты так посмотрел на меня? Да, любовью! «Если съедите этот плод, то познаете любовь!» Вот что сказал Еве Сатана, и вот чем он соблазнил ее. Он взял ее в объятья и научил ее любви. Ты понимаешь? Понимаешь? И когда Ева познала любовь, она отдалась соблазну. Правда ведь?