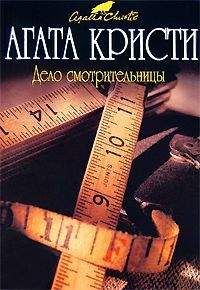Елена Колядина - Под мостом из карамели
В три часа дня, когда поток обедающих иссякал и в ресторане наступало затишье, шеф и Лета усаживались за шаткий столик в углу кухни и пили растворимый кофе с бутербродами из остатков мясной или рыбной нарезки. Лета привычно включила чайник, достала из шкафчика кружки и вздрогнула, когда из-за локтя появился букет алых роз с обсыпанных блестками кончиками лепестков, а к её боку прижался творожистый живот. Лета перешагнула за угол стола, делая вид, что живот коснулся её случайно, и недоумённо подняла глаза.
Шеф стоял без поварского колпака, в приливе одеколона. На груди золотился лапчатый крест. Свежая куртка прикрывала брусничные кольца от снятого в подсобке радикулитного пояса.
– Что за цветы? – спросила Лета, изо всех сил надеясь, что ошибается в трактовке происходящего – шеф просто решил отметить её уход, отблагодарить букетом.
– Тебе. Любишь розы?
– Нет, – сказала Лета. – Терпеть не могу.
– А что любишь? – придвигаясь к Лете, проурчал шеф, довольный начавшейся сексуальной игрой. – Ромашки?
– Ветер и камни.
– Нарочно заводишь меня, да? – сказал шеф жарким голосом и стиснул Лету, дыша ей в макушку. – Хочешь, слетаем на выходные в Сочи?
– Олимпийские объекты осмотреть? – упершись локтем в наваристую, с жирком, руку шефа, хмыкнула Лета.
– Закажу хорошую гостиницу, с сауной, с бассейном. Ресторан. Куплю тебе, что захочешь – золото, сапожки, платье.
– Сапожки? – Лету стал давить смех. – Мне? А жена разрешит?
– Из-за жены не переживай, она ничего не узнает.
– Ну, раз не узнает, тогда конечно, – сказала Лета и зажалась, стихнув, надеясь, что толстый белый медведь, обнюхав её и приняв за ледышку, потеряет интерес и побредет дальше, шлепая сандалиями с магнитными стельками. И они с медведем расстанутся друзьями.
Но шеф воспринял затишье как податливость и согласие и, стиснув Лету одной рукой, стал целовать в ухо, отпрянувшую шею, добрался языком до губ, до болезненной яремной ямки, а другой рукой нашарил маленький пупок. У него и в мыслях не было брать поваришку силой, обижать или оскорблять. Он просто хотел получить удовольствие, и был уверен, что желание станет взаимным. Шеф знал этих маленьких шальных скорпионов – нынешних девчонок. Они мгновенно распаляются, и эта тоже загорится, едва он сдавит ее. Он, кстати, в сексе не эгоист, думает не только о себе, поэтому девчонка будет довольна, сполна получит своё.
Лета, сжав зубы, чтобы не чувствовать чужого мокрого языка, молча пиналась и выворачивалась.
– Что у тебя там, – уже плохо соображая, бормотал шеф, вдыхая слабый нежный запах и поводя солёными глазами. – Стринги, да? Красные, кружевные? Или ты вообще без трусов, джинсы прямо на попке?
На Лете были хлопчатобумажные трусики военной камуфляжной расцветки, в трусиках лежала ежедневная прокладка «Либресс» ультимативного черного цвета. Маленький дикий неспелый абрикос двумя твердыми половинками, как камнем, закрывал проход к незрелому детскому ложу с гроздьями, плотно унизанными мелкими замерзшими виноградинами. Чуть тёплое чистое лоно, рождающееся не чаще одного раза в две тысячи лет.
– Как я тебя хочу!.. Ты тоже хочешь, да, киска?
– Да отпусти же!
Она собралась с силами, и лягнула шефа под колено, прямо в натруженную извилистую вену. От боли он выпустил добычу, накренился и, пытаясь удержаться, завалился на плиту, с грохотом сшибая противень с заготовленными на вечер фаршированными крылышками. Оскальзываясь на куриной коже, Лета ринулась из кухни, сорвала с вешалки в проходе куртку, выбежала через служебный выход, предательски бросив на поле боя ботинки, сохнувшие под батареей, и спрыгнула с крыльца, оставив в снегу отпечаток томатного соуса. Она боялась, что шеф погонится следом, и, оглядываясь, но ничего не видя от закипавших слез, бежала по улице вдоль магазинов и кафе, пока за киосками не бросилась в подворотню. Там, под свисающими проводами и кабелями, она, наконец, остановилась, провалившись одним сабо в выбоину, полную снежной каши, и заплакала, издавая коленчатую птичью трель при каждом отрывистом вдохе. Из арки, уходящей в темный колодец, потянуло бетонным холодом. Подвывая, Лета натянула куртку, поглядела на промокшие до колен джинсы и заляпанные грязью светлые сабо на хлястиках – она купила их специально для работы, и, всхлипывая, нащупала телефон. Она одинока, абсолютно одна, настолько одна, что ей даже некому позвонить. Наконец, она нажала номер Собаки.
– Да, Лета, – сразу ответила Собака. – Что с тобой?! Ты где?
– В арке… здесь киоски… – двоящимся от плача голосом всхлипывала Лета.
– Жди меня, стой, где стоишь!
– Здесь темно…
– Слушай: выйди из арки на улицу, но никуда не уходи. Я перестраиваюсь и уже еду к тебе. Хочешь, будем разговаривать? У меня здесь громкая связь.
– Нет, не надо. Я буду ждать, – прошептала Лета.
Когда-то она без конца раздвигала границы своего собственного добра и зла, с восторгом, виной и ужасом определяя пределы милосердия и жестокости, на которые способна сама. Она была непреклонна, и, в конце концов, успешно разрушила «ценности», с которыми к ней лезли с экрана и от школьной доски, а так же твёрдо уяснила для себя, что в этом мире хорошо, а что – на помойку. Способ плох тем, что при этом никогда не узнаешь, на что готовы другие, где проходят границы их благости – если они вообще есть, и что для них означает слово «любить». Поэтому налёт возбуждённого шефа, хотевшего всего лишь, чего и все – удовольствия, серьёзная Лета восприняла как покушение на насилие, она чувствовала себя униженной, с избитым сердцем и раздробленной душой.
Собака подъехала на своей коричневой «Хонде» и сразу увидела дрожащую Лету, беспомощно стоявшую перед бровкой грязного снега в мокрых сабо и куртке нараспашку поверх белевшего в сумерках кителя. Она усадила Лету на переднее сиденье, включила подогрев кресел и в упор, словно обо всём уже знала, но лишь хотела услышать от самой Леты, спросила:
– Как это случилось?
– На работе, в «Пилаве».
– Ты его знаешь?
Лета кивнула, но продолжала смотреть вниз, на свои сжатые у живота руки.
– Он наш шеф-повар.
– Отлично! То, что вы знакомы, вины с него не снимает, зато облегчает расследование. Отсидит пять лет в обществе близких по духу козлов. Мы своих в беде не бросаем. Едем в прокуратуру!
Лета испуганно подняла взгляд, наконец, глянув в лицо Собаки.
– Зачем в прокуратуру?
– Напишешь заявление, чтоб отсидел! Ничего не бойся, у нас есть свои юристы, адвокаты, и судьи среди наших найдутся.
– Он ничего не сделал, – Лета снова всхлипнула. – Только хотел.
– За покушение сядет. Проверят на причастность ко всем подобным происшествиям по Москве и дальнему Подмосковью. Организуем! Он тебя бил?
– Нет, цветы подарил. Ненавижу цветы!
– Угрожал?
– Нет, – Лета помотала головой. – Полез с поцелуями, сказал, поедем в Сочи. Я вырвалась и убежала. И всё. Он нормальный, не знаю, что на него нашло.
– Горячий повар с сердцем золотым? Понятно. А чего тогда рыдаешь? Только не надо его выгораживать. Давай без стокгольмского синдрома. Сейчас ещё начнёшь себя винить? Ты абсолютно ни в чём не виновата, – Собака тяжело вздохнула. – Не бил, не угрожал. За розы мы его засадить вряд ли сможем. Тогда почему ты плачешь, можешь объяснить? Расскажи – сразу станет легче.
– Я этому идиоту доверяла. А он! Прямо на кухне, у плиты… Он старый и толстый! – Лета всхлипнула и залилась слезами. – Мне сейчас так одиноко! Как будто я во сне потерялась в тёмном городе. И кругом чёрные дома, чёрные деревья, и мне нужно найти свой двор, войти в чёрный подъезд и добежать по лестницам до своей квартиры. Меня, наверное, до конца жизни кто-то будет подстерегать, и хватать своими жирными лапами.
– Пока будешь общаться с самцами, так и будет. В том, что случилось, ты совершенно ни при чём. Думаешь, он именно тебя хотел? Нет, просто собирался кончить без отрыва от производства. Поэтому не вздумай убиваться, ненавидеть весь свет и вставать под душ для ритуального смывания грязи. Дело не в тебе. Все самцы такие! Ему всё равно с кем. На твоем месте могла оказаться любая, что под руку подвернулась. Ему твоя душа, душевная близость побоку, – Собака дотянулась до бардачка и вытащила упаковку влажных салфеток. – На, утрись, и не плачь больше из-за мужиков. Никогда не плачь. Ты же видишь, какой это мир, разве он стоит наших слёз?
«Хонда» медленно двигалась в потоке машин.
Лета не знала, плакала она от обиды и разочарования в людях – именно во всех людях, а не в мужчинах, – или от того, что постыдно бежала, и сейчас, сырая и встрёпанная, чувствовала себя побеждённой и проигравшей. Ей казалось, она дерзкая и циничная, но выяснилось, что в отношении некоторых говнюков её, Леты, запаса ненависти, предназначавшегося для домашнего и школьного употребления, явно не хватало.