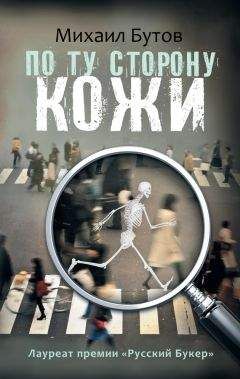Михаил Бутов - Свобода
И вынес он на сей раз не откровенное старье, а явно свои собственные, рабочие, новенькие. Как будто хотел понадежнее откреститься, сделав для меня даже больше, чем я рассчитывал, от моей неизбежной, по-видимому, гибели в снегах — но и до того не опускаясь, чтобы отговаривать. Я опять поблагодарил. Он сунул мне ладонь, но как-то неуверенно, словно боялся, что промахнется или сожмет в руке пустоту. И странно смотрел: точно уже распознал во мне тень, ревенанта, лептонное облако — и силится разглядеть сквозь мое эфемерное тело надпись «The Beatles» горелой спичкой на зеленой стене.
Сутки поезда слабо отпечатались в памяти. Я мало спал прошлую неделю и теперь проваливался, стоило только присесть. Временами Андрюха тормошил меня и тащил в вагон-ресторан, где мы умеренно выпивали и поглощали эскалопы, от которых потом часами изводила изжога. Ночью, когда я курил в тамбуре, где после натопленного купе зуб не попадал на зуб и сигарета не держалась в пальцах, за окном проплыло, размытое инеем, название станции, выложенное из цветных лампочек, — «Полярный круг». А ранним утром мы выбросились на полуминутной остановке в еще не проснувшемся по случаю воскресенья маленьком поселке. Из полутора десятков домов, обшитых досками и покрашенных в желтое и голубое, самым вальяжным выглядела почта, соединенная с поссоветом. Возле нее стояли приземистый гусеничный вездеход и зачехленный «Буран» — снеговой мотоцикл. Мороз на ощупь не переваливал за двадцать — должно быть, почти оттепель для этих краев. Но колючий ветер гнал низкую поземку. Когда я поворачивался к ветру лицом, открытая кожа мгновенно коченела, казалась ломкой, как тоненький лед, и готовой растрескаться, стоит напрячь под ней желваки.
Сразу за поселком начинался и тянулся по склону редкий ельник — рахитичные стволы с такой жидкой хвоей, что просвечивала метрах в двухстах снежная пустошь. А дальше, над деревьями и домами, поднимались и уходили плавной чередой белые горы, похожие на каски военных регулировщиков. Их величина опрокидывала перспективу — оттого глаз терялся, пытаясь примериться к расстояниям. Снег покрывал их почти целиком, лишь на немногих отвесных участках чернел голый камень, и линию, разделявшую склоны и белесое небо, не везде удавалось различить…
Это было время нашей с Андрюхой наибольшей близости. Я не сомневался тогда, что мы полностью распахнуты друг для друга.
Хотя уже и к этой зиме с ним довольно произошло такого, о чем стоило бы поразмыслить. Однако я все привык относить на счет его бьющего через край жизнелюбия, способного порой диктовать ошибочные ходы. Мне нравилось находить в Андрюхе что-то, чем я не обладал сам. Нравилась его бурная, детская совсем восторженность перед дорогими вещами, хорошей едой и марочной выпивкой, друзьями, женщинами (тут без особого разбора: не обязательно первой молодости и ослепительной красоты). Он любил мясо и шоколад. Его излюбленной приговоркой по всякому поводу было словечко: «Сласть!» Однажды про себя я назвал его «человек-праздник». Мы успеем повзрослеть, измениться, станем скучнее, перелистаем без особого толка изрядное число календарей — и вдруг выяснится, что я так и не понял в нем главного, не увидел самого мощного теллурического течения его души — подспудной тяги к самоуничтожению. Быть может, она именно и определила Андрюхино увлечение туризмом. Оставив институт, он долго еще не порывал связей с турклубом. Брал отпуск зимой, работал по две смены, чтобы присоединить отгулы к седьмому ноября и восьмому марта, когда и турклубовцы-студенты обычно выкраивали неделю-полторы, — и, покуда я перебирался с курса на курс, приближаясь к диплому, накопил действительно серьезный опыт. Сходил на Таймыр и хребет Черского, после чего о наших давних уже Хибинах вспоминал как о воскресной прогулке за город.
Правда, злые языки поговаривали, что каждый поход с его участием был отмечен опасными ситуациями и лишь по счастливой случайности обходилось без потерь. Удивлялись, как это у нас вдвоем все окончилось благополучно. Но у них не получалось, утверждая так, поставить ему в вину ничего конкретного: неправильного поведения или очевидного просчета. И я думал, в них просто говорит раздражение легко объяснимое. Чем дальше, тем чаще стали обнаруживаться за Андрюхой — как следствие задуманных им товарно-денежных операций — астрономические по меркам тех лет долги. От сумм уже отчетливо попахивало тюремным душком. Иногда его обманывали. Иногда потом, задним числом, делалась совершенно ясна заведомая обреченность предприятия. Иногда и сам он недоумевал с искренней миной, куда ушли сотни, если не тысячи, собранные у сотоварищей на предмет закупки чего-нибудь полезного: мукачевских лыж, ледорубов, парашютного шелка.
Действовал Андрюха не только в туристской среде. Девушкам, знакомым и не очень, наобещал итальянскую парфюмерию. В магазине — командирские часы (и заказывали штук по пять: мужьям, сыновьям, племянникам…). Исключено, чтобы Андрюха заранее строил планы кого-то кинуть, растратить и присвоить чужие деньги. Он твердо и до последнего верил, что все добудет, привезет, раздаст. Но едва деньги попадали ему в руки — словно настройка сразу сбивалась у него в сознании, некий контур начинал барахлить. Понятие о деньгах как о том, что требуется держать в неприкосновенности ради отдаленной — пускай всего на день — цели и выгоды и сведения о бумажках в кармане, посредством которых можно прямо сейчас, сию минуту доставить удовольствие себе и ближнему, как будто записывались у Андрюхи в разных отделах мозга и между собой не перекликались. Признаться, я не считал это таким уж великим преступлением. Или болезнью.
Ну, разгильдяйство… Я вообще избегал выносить здесь суждения и делать оценки — он был мне дорог. А ввести меня в денежные затруднения не сумел бы при всем желании. Я ничего не покупал.
Еще с пионерского возраста, с первых робких попыток что-нибудь наварить на перепродаже колониальных марок и молодежных журналов из ГДР, где печатали портреты рок-звезд, я усвоил, что барыга из меня никудышный и впредь занятий такого рода мне нужно чураться.
Гроши, которые я мог в студенчестве предложить ему взаймы, не особенно жаль было отдать и просто так, без возврата. Прочие крыли его безжалостно. Но остракизму пока не подвергали: слишком явно не вязался Андрюхин образ с представлением о прикопанной где-то кубышке.
Если и сопутствовал Андрюхе какой хранитель — то очень нерадивый и напоминающий собственного подопечного. Ему бы останавливать Андрюхины проекты еще в зародыше — а он спал. И просыпался, со скрипом брался за дело, только когда тучи уже сгущались и назревали крупные неприятности. Тут наступала полоса последовательных везений. Свои в основном прощали, махнув рукой на канувшую стипендию. А в первый раз даже пошли ночью грузить вагоны, чтобы помочь Андрюхе расплатиться на стороне.
Кредиторы-оптовики, потерявшие порядком больше и настроенные решительно, весьма кстати сами попадали под суд, уходили в армию, уезжали по распределению в тмутаракань — тем или иным путем выбывали из игры. Остальным не сразу, но все-таки удавалось возместить. Одна за другой подворачивались фарцовки — мелкие, зато верные. Частью с них, частью из зарплаты и примыкающих к ней доходов. Так тянулось месяцев пять или шесть.
(В магазине Андрюха рассчитывался года два — и раньше не мог уволиться. Хорошо, дошлые торговые люди и относились к нему с симпатией, и знали по себе: от проколов не застрахуешься — поэтому бучи не поднимали, дожидались тихо-спокойно.) Дальше, как правило летом, имел место непродолжительный мертвый сезон.
Дважды, понятно, никто на Андрюхины удочки не попадался. Ничего.
Он расширял круг общения. По осени появлялась в турклубе желторотая, неискушенная поросль. И все начиналось сначала. И этот мерный круговорот, эти повторяющиеся уместности постепенно, наряду с дурной, создали ему славу человека непробиваемо заговоренного. И мне несмотря ни на что он как и раньше казался едва ли не самым надежным и жизнеспособным среди моих приятелей.
И еще девять лет спустя после нашей поездки на север, наблюдая в ночь старого Нового года, как он запускает с ножа в бутылку фиолетовые кометки, думать о нем я буду так же. И еще какое-то время пройдет, мы будем встречаться то чаще, то реже, прежде чем врач в хорошем платном дурдоме, куда родители и невеста попытаются спрятать Андрюху теперь уже от самых настоящих бандитов, которым он умудрится задолжать ни много ни мало тысяч полтораста долларов, расставит точки над десятеричными «и», отлив истину в тяжелую латынь диагноза. Комментарий, как мне его перескажут (не поручусь, что не добавил в своем изложении отсебятины и психиатрических нелепостей), сведется вот к чему: у пациента выраженные суицидальные тенденции, клинические, возможно наследственные, передавшиеся через несколько поколений.