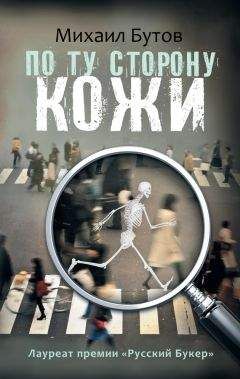Михаил Бутов - Свобода
Андрюха потянулся и пожевал пересохшими губами. Я ласково обругал его козлом.
— А что такое? — оживился он. — За козла ответишь. Кто это был?
Я сказал: надежда. Причем в чистом виде.
За давностью лет я уже не способен сказать в точности, когда и с чего именно началась наша дружба. Но десять против одного, что встретились мы где-нибудь в самые первые дни студенчества в курилке Института связи, выбранного и мною и Андрюхой по критерию низкого проходного балла. Курилкой служил зал бывшей столовой в полуподвале: здесь активно фарцевали, клеили снисходительного нрава девиц, играли в карты и менялись модными пластинками, отсюда можно было попасть ненароком и на блядки, и на вечеринку чилийской общины с настоящим Луисом Корваланом; две комнаты по соседству занимал клуб туристов с песнями под гитару, смешными стенгазетами и альтернативной системой ценностей. Это подземелье, как Индия европейцу, открывало лопоухому первокурснику совершенно новые горизонты, и не всякий, сошедший сюда от лабораторий, лекций и семинаров, возвращался потом назад.
Поступил Андрюха не сразу, после школы год трубил на каком-то режимном заводе, а теперь, вспоминая завод как страшный сон, наверстывал упущенное: спешил интересно жить и дышать полной грудью. Поначалу он примкнул к прописавшейся в курилке компании преферансистов, но вскоре, проиграв сколько было денег, проездной и двухтомный учебник Пискунова по матанализу, переметнулся в турклуб, куда и я заглядывал послушать местных бардов, неумолчных, как июньские соловьи. Мы уже были знакомы, находили, о чем поболтать при случае, и однажды посетили на пару пивную — а тут и вовсе сделались приятели не разлей вода. И в городе — когда Андрюха не пропадал в очередном лодочном, горном или лыжном походе — большую часть времени проводили вместе. Но вот на байдарках я присоединился к нему только один раз. Я с детства боялся военной службы и предпочитал честно тянуть учебу, тем более что москвичей из недоучившихся забирали чаще всего на зоны в конвой — обеспечивая, надо полагать, смычку интеллигенции с народом. Весной второго курса Андрюха из института вылетел, потому что без конца путешествовал и ровным счетом ничего не делал, чтобы досдать хотя бы прошлогодние сессии; только в силу острого дефицита мужчин на их факультете деканат и комсомол так долго терпели его и убеждали образумиться. Андрюхин отец заведовал кардиологическим отделением крупной больницы, и в военкомат были предоставлены справки о сердечной недостаточности — возможно, не совсем липовые: Андрюху отправили на обследование в госпиталь, и если белый билет он все-таки получил — значит, что-то там подтвердилось. В угоду своеобразной подзаборной романтике, выдуть которую не сумели из него даже ветры дальних странствий, работать он устроился грузчиком в продовольственный магазин на улице Чернышевского: выходил через день, от восьми до восьми. Это был изматывающий труд, но Андрюха казался им доволен и даже вдохновлен. Крутил любовь с продавщицей бакалеи — слегка заторможенной юной лимитчицей родом из-под Воронежа, по родственному блату попавшей со стройки за прилавок. Она жила в общежитии в Текстильщиках; соседка по комнате за определенное вознаграждение на пару часов удалялась играть с подругами в нарды — и Андрюха ловко запрыгивал в окно второго этажа, пользуясь выбоиной в стене. Ему явно нравилась роль любовника-отца, умудренного покровителя, оберегающего от столичных опасностей и соблазнов вверившуюся ему неопытную провинциалочку. Он говорил, что его пьянят ее анемичная повадка и выражение неизменного безразличия на миловидном кукольном лице. Я здорово посмеялся, когда стало известно, что она наставляет ему рога с мясником из другой смены. Андрюха надавал ей для порядка по сусалам — но визитов не прекратил.
Иногда я поджидал его после работы у магазина. И мы отправлялись на Таганку, в бар, где стойку украшал позеленелый аквариум с белесыми молочными лягушками. В магазине Андрюха не то чтобы подворовывал — он выполнял заказы: разовые, случайные, в отличие от продавцов, имевших постоянную и проверенную клиентуру. Если солидный человек очень просит придержать для него, скажем, полпуда хорошей вырезки — почему не принять потом благодарность?
Деньги перепадали не ахти какие, но гуднуть раз в неделю Андрюха мог себе позволить. А вести счет и прикидывать, заплатит ли за тебя завтра тот, за кого ты платишь сегодня, — этого и тени не было в его натуре.
Около одиннадцати бар то ли закрывался, то ли переходил на спецобслуживание лиц, к кругу которых мы явно не принадлежали.
Но оставался еще в запасе функционирующий ночь напролет ресторан Казанского вокзала — с едой железнодорожного пошиба, высоким, как небо Аустерлица, потолком и многофигурными фресками на стенах. Рестораном оканчивалась не каждая наша встреча, однако ночные швейцары, обязательно получавшие от Андрюхи рубль, уже здоровались с нами как с завсегдатаями. В Татьянин день мы приехали сюда отметить наступление моих каникул.
Пили коньяк — водки ночью не подавали. Со стен, не в силах охватить разумом невиданный урожай хлопка, плодов, барашков и домашней птицы, рассеянно улыбались опрятные дехкане. Андрюха вспоминал путешествия прошлой зимы. Перемещая по скатерти ножи и тарелки, изображал рельеф местности — чтобы было понятнее, каким опасностям он на ней подвергался. Ему внимали с другой стороны стола, серьезно качали головами два пожилых клинобородых узбека.
Когда Андрюхе не хватило вилки обозначить новый отрог, узбеки протянули свои.
У меня не было причин не верить. Я и не мог бы распознать вымысел, ибо не имел сколько-нибудь отчетливых понятий, что и как происходит в этих походах на самом деле. Однако пьяная спесь тянула за язык, и я все пытался, с удручающей монотонностью, Андрюху подъелдыкнуть, все добивался признания, что за свои собственные приключения он выдает некие общетуристские байки.
Андрюха терпел, делал вид, будто не слышит, но в конце концов запнулся на полуслове и, медленно повернувшись, быковато, в упор на меня уставился. Узбеки почуяли назревающий мордобой и стали тоскливо озираться по сторонам. Андрюха поднял лапищу, и на мгновение мне показалось, что три месяца гастронома не прошли для него бесследно — возьмет и вправду стукнет. Я не закрылся.
Ладонь благополучно опустилась мне на плечо.
— Я ведь звал тебя с собой, — сказал Андрюха. — Ты соглашался?
Не соглашался. Ну и дурак.
Я привел доводы в свое оправдание: не получалось, был занят, учеба, зачеты, экзамены… Андрюха поморщился:
— Но сейчас-то — свободен?
— Две недели.
— Отлично. Как раз для первого знакомства.
— С кем? — спросил я.
— С зимней тундрой, с полярным сиянием, с шепотом звезд. Читал Куваева?
— Нет. Кто это?
— А Джека Лондона?
— Ну… В детстве.
— Вот будет один в один. Обещаю.
— И собаки?
— Собаки? — запнулся Андрюха, обескураженный ходом моей мысли. — Нарты? Да, пожалуй, не будет. Один в один — без собак.
Я сказал: надо подумать. Андрюха подался ко мне и навис над столом, повалив локтем соусник:
— Чего тут думать?! Утром собираемся — вечером едем. Давай решайся! Белое безмолвие ты увидишь сам…
И так блестели у него глаза, так дрожал голос, что вдруг невиданное какое-то чувство великого простора пошло распирать мне грудь. И сквозь недоеденную киевскую котлету я уже прозревал бескрайние заснеженные поля, которые хотел — нет, обязан был преодолеть!..
Мы преодолели пустую вокзальную площадь и купили билеты.
На следующий день я отмокал в горячей ванне, щипал куренка и никуда, естественно, не собирался. Разного рода сумасшедшие планы возникали нередко — но мы умели ценить заявку на историю не ниже самой истории и обходились, как правило, без продолжений. Андрюха позвонил ближе к вечеру и привел меня в замешательство, поинтересовавшись, помню ли я, что на мне важные мелочи: вазелин, соль, спички… Я ответил, что скорблю головой после ресторанной ночи и не в настроении сам себя разыгрывать.
«Ты кефира выпей», — сказал Андрюха. И сообщил, что на работе договорился: взял неделю отгулов и еще одну — за свой счет. До поезда оставалось четыре часа.
Единственное, что я знал о зимнем Заполярье наверняка, — будет холодно. Поэтому попросил у отчима его безразмерные ватные штаны. Отчим сказал, что с радостью отдаст мне все, что угодно, лишь бы меня подольше не было видно. Андрюха вроде бы объяснял, что жить нам предстоит на брошенной геологической базе, куда от железной дороги не составит труда добраться в полдня, без ночевки. Но я все-таки разыскал под кроватью старую, времен юности родителей, одноместную брезентовую палатку. Проверил молнию на спальном мешке. Собрал шерстяную одежду. И побежал на соседнюю улицу занять недостающее снаряжение у школьного приятеля, ныне тоже студента и туриста. Приятель находился в дурном расположении духа: за то, что он похерил в сентябре какие-то однодневные выезды в колхоз, теперь его назначили, вместо каникул и похода, на хозработы в институте. Я сказал ему, куда отправляюсь (с характерными оговорками: ледяные Хибины мешались у меня по созвучию с раскаленной Хивой и эмигрантским Харбином). Минут сорок он держал меня на лестничной площадке, самозабвенно описывая плато, перевалы, вершины и всевозможные произошедшие там трагические случаи. Пока не сообразил, что хлесткие термины и чухонские первобытные наименования я даже приблизительно не связываю с какими-либо реалиями, так что юмор, красота или ужас, заключенные в его рассказах, достигают меня не вполне. Он пожал плечами. Принес выцветший капроновый анорак и потрепанные туристские лыжи, оборудованные креплениями для прыжков с трамплина. На лице у него было написано, что вещи эти вкупе со мной он не надеется увидеть когда-нибудь снова. Я поблагодарил и двинулся было вниз по лестнице; тут он поинтересовался вдогонку, какого покроя у меня бахилы. Я спросил, что он имеет в виду. Оказалось: пришитые к галошам мешки с завязочками — служат, чтобы снег не набивался в ботинки.