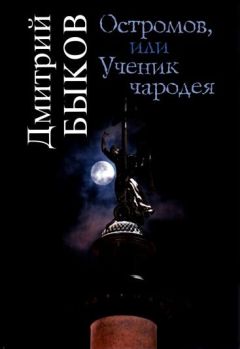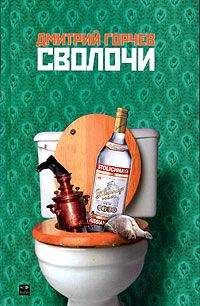Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Взять с собой она хотела как можно меньше, потому что и на прежние свои вещи не имела права, да и не были эти вещи рассчитаны на ссылку. Практичного, полезного в доме почти не водилось — все бирюльки, украшения, глупости; холили, лелеяли — а надо было иначе, и самой себя надо было воспитывать жестоко, обливаться, может быть, водой… Ах, какая вода спасла бы от Райского, от Лосевой, от Махотки? Ни к чему нельзя подготовиться, ничему научиться: душа или есть, или нет, сколько себя ни дрессируй. Не на хрупких же и жалких этих вещицах вымещать теперь ненависть к собственной гнили: они чем согрешили? Разве носатый полишинель, разве бедный лондонский кролик был чем-нибудь виноват? Живой и сильной душе они были бы на благо, научили бы ее нежности и состраданию, а ее гнилой пустышке не помогли бы все учителя мира — только самой на руинах прежнего можно было возвести что-то новое, достойное жизни.
И потому сперва она не хотела брать Мистера Кэта, а потом взяла.
2Оставалась еще одна невыносимая обязанность. Надо было обойти старцев. По ужасному совпадению, была пятница — день, когда в невообразимо отдалившейся прежней жизни она ходила по домам и смела роптать, выполняя их смешные, копеечные поручения. И она отправилась прежним маршрутом — Осмоловский, Самуилов, Громова, Буторов, супруги Матвеевы. Может, и не дожил кто? Но у Осмоловского в квартире не было телефона, а Самуилов давно не брал трубку, опасаясь подвоха. И было что-то стыдное в том, чтобы не зайти ко всем самой: даже если умерли, надо проститься. С этого начиналось — не искупление, нет, но полноценное наказание, прощание с прежней Надей.
Апрель 1926 года был удивительно жарок и томен, словно нарочно, чтобы окрестный рай подчеркивал внутренний ад. Блаженно, как ребенок, потягивающийся в постели, приходил в себя город после дикой зимы. Все зазеленело в три дня. Хрусткие стебли тянулись из пустырей, из пятен бросовой земли, еще недавно нужной, застроенной, а теперь пустынной; но природа пустоты не терпит и все заселяет нерассуждающей растительной жизнью, страстно желающей плодиться. Вылезли одуванчики, надрывались птицы, голосили сверкающие трамваи, солнце плясало во всем, что готово было его отражать, — и словно на глазах развертывались туго сжатые зародыши листьев: шло и торжествовало ежегодное чудо возобновления, из которого человек выпал раз и навсегда. Все возобновляется, а ему нет возврата. И Надя, выпав из перечня людей, ближе стала к этому растительному царству — как велик был соблазн вовсе раствориться, слиться с ним! Но этого выхода не существовало. Надо было прожить, промучаться, стать последней из людей — но из людей, а не из этих безмысленных сущностей. После смерти, может быть, — а теперь она еще не заслужила.
Осмоловский сидел на лавочке у своего трехэтажного дома, блаженно зажмурившись и подставив солнцу небритое, бледно-желтое лицо. Надя некоторое время постояла рядом, не решаясь вывести его из сладчайшей апрельской дремоты.
— Кирилл Васильевич, — робко сказала она наконец.
Осмоловский встрепенулся и раскрыл глаза. Некоторое время он промаргивался, а потом радостно заулыбался.
— Наденька, — сказал он беззубым ртом. — Какая прелесть. Как вас долго не было. Не заболели?
— Хуже, Кирилл Васильевич, — сказала она и замолчала, не в силах объяснять.
— А, да, — сказал он, поморщившись. — Я что-то такое слышал. Здесь столько всего без вас было, Наденька. Вы столько пропустили. В этом году весна такая ранняя — скворцы, представьте себе, уже были тут седьмого марта.
Что она делала седьмого марта? В Крестах не было времени. Она знала только, что мучилась, что душа ее умирала в это время, а к Осмоловскому прилетели скворцы.
— И вообще, Наденька, — продолжал он с кроткой стариковской радостью, за которой ей слышалась теперь вечная стариковская хитрость, способность отгородиться от всего скворушками и листочками, — я столько понял, столько понял этой весной… Скажем, голубь. Обыкновеннейший уличный голубь, а сколько оттенков в этом ворковании! Лучшая песенка — то, что поет голубь на солнышке: я заметил, что начинается оно с повышения тона. Люди всегда — на повышение, а он понижает…
Надя молчала, глядя в землю. Она не смела прерывать его. Он рассказывал о чудесных свойствах кленового сока, который стал собирать, — вкусней березового! — и о волшебной трели чижика, которого завел себе его сосед, маленький Вовка. Чижик, оказывается, высвистывал не одно коленце, а семь, и одним приветствовал только Вовку, как собака, узнающая хозяина. Сколько чудес и мыслей в крошечной птичке.
— Кирилл Васильевич, — сказала та, что была Надей. — Я в ссылку еду.
— А куда? — поинтересовался он, как ей показалось, живо.
— В Пензу.
— Пенза — о, чудесный край. Там удивительные ботанические возможности. Почвы там, я полагаю, сухие и кислые, и потому, Наденька, вы сможете там наблюдать татарник, какого в Ленинграде не встретите. И кроме того — зимой свиристель, летом, должно быть, ястребки… Там ведь степи? Не упускайте возможности наблюдать. Знаете, Наденька, с тех пор, как я наблюдаю природу, я перестал многое, очень многое замечать. Из того, что прежде мучило. Все беды — от того, что мы ушли из природы. Я думаю, если вы станете наблюдать, там, в Пензе, будет счастье… Вот заметьте: я вчера вечером наблюдал паучка, обычного паучка… Впрочем, вам ведь некогда? Вам всегда некогда, Наденька, мы все бежим и не хотим прислушаться…
— До свиданья, Кирилл Васильевич, — сказала она. — Если что-нибудь понадобится, звоните маме на службу, телефон вы знаете.
— Да что же мне понадобится, — сказал он благостно. — Я радуюсь теперь всему. Никогда не думал, что простой листочек может доставить столько счастья… столько чувства…
Он сидел на лавке, жмурясь, задрав лицо к солнцу, — сам уже часть древесного, травного, тварного царства, не знающего страхов и сожалений, счастливый Осмоловский. Надя постояла около него еще минуту и почувствовала, как из нее уходят силы. Их и так уже было мало. Около Осмоловского было спокойно и даже уютно, как бывает иногда в весенний день на кладбище: поют птички, и люди вокруг обухаживают родственные могилы, и все это похоже на мирный земледельческий труд, на кроткое преодоление смерти, всеобщее примирение среди просыпающейся земли. Но долго там находиться нельзя, потому что никакого преодоления не происходит, а напротив, сплошная смерть — просто весна обезболивает ее проникновение в тебя, как, говорят, вампиры обезболивают укусы. Смерть кругом, и чем дольше ты там стоишь, тем больше ты ее часть; и стоя рядом с Осмоловским, Надя так же медленно и безболезненно погружалась в природу, вот уже и врастала в асфальт, вот уже растворялась даже ее вина, и растворение это было блаженно, — и именно по тому, как притупилась грызущая ее боль, она поняла, как быстро успела расчеловечиться около этого почти уже растительного существа. С трудом, словно выдирая корни из почвы, она оторвала ноги от диабаза и отправилась к Самуилову — сначала медленно, как дерево, учащееся ходить, а потом почти бегом.
Самуилов был жив, живуч, но разговаривал уже через дверь, и так со всеми. Возможно, если бы Надя приходила пресмыкаться еще дня три или простояла на коленях под его дверью пять часов, раскаиваясь в неведомом грехе, — он бы смилостивился и открыл, и рассказал о новом заговоре соседей, вошедших в комплот с городскими властями, водопроводчиком, мировым правительством, и даже предложил бы ей сесть ближе к утру, — но у Нади не было сил проситься, да и незачем. Ей открыли соседи.
— Давно не впускает никого, в гальюн по ночам ходит, — сказал белобрысый мужик с тонким острым носом и усами щеточкой. Надя подошла к знакомой двери и спросила, не нужно ли чего.
— Вы все уже сделали, что могли, — прохлюпал из-за двери Самуилов. — Все, все, что могли, уже вы сделали. Уже вы погубили безвозвратно.
Как все сумасшедшие, он бил иногда удивительно точно.
— Простите, Василий Степанович, — сказала Надя и повернулась уходить, и он как-то почувствовал это сквозь дверь — или подсматривал в глазок? Мимо Нади ходили коммунальные соседи Самуилова, улыбались, подмигивали и крутили пальцем у виска.
— Вы погубили! — зарыдал Самуилов в голос. — Вы отобрали все! У меня вчера пропали брюки, моль съела шарф зимний! Был зимний шарф, съела! Украли шляпу, шел по улице, сшибли! Во втором классе пропала фуражка прекрасная новая! Спрашиваю — кто взял, никто не говорит. Взяли все, ничего не осталось, и тут вы приходите требовать! Вот, возьмите, входите, берите все, не осталось ничего!
Он распахнул дверь, и из занавешенной, темно-зеленой комнаты ударила физически ощутимая волна густой вони, нечистой старости, застарелой, неизлечимой неудачи — кажется, за время ее отсутствия все тут еще больше заросло сплетнями, страхами, паутиной воображаемых интриг, которые сплетал вокруг себя одинокий Самуилов; зеленые высохшие плети его мыслей висели в комнате, по углам копились их страшные гроздья. Но взглянув на нее, он словно увидел нечто не в пример более страшное — за один миг проник, понял, коснулся, ужаснулся и, тихо втянув воздух, захлопнул дверь. Страшно было Самуилову, а ей хуже.