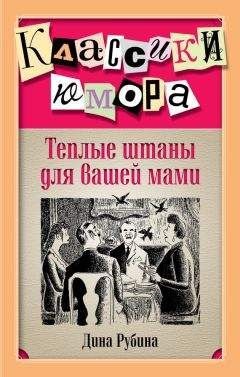Ханья Янагихара - Маленькая жизнь
– Джуд, – сказал он и сел рядом с ним на кровать. Он вынул шарик из его правой руки и вложил ему в ладонь свою руку.
Он подумал, что Гарольд ужасно выглядит.
– Прости, Гарольд, – сказал он, и Гарольд расплакался. – Не плачь, – сказал он ему, – не плачь, пожалуйста.
И Гарольд встал, зашел в туалет и шумно высморкался.
В ту ночь, оставшись один, он тоже заплакал – не из-за того, что сделал, а из-за того, что не добился цели и все-таки остался жив.
С каждым днем его сознание прояснялось. С каждым днем он все дольше бодрствовал. По большей части он ничего не чувствовал. Люди приходили его навестить и плакали, он смотрел на них и отмечал только непривычность их лиц и сходство всех плачущих – разбухшие носы, редко используемые мышцы растягивают рты в неестественные стороны, в неестественные очертания.
Он не думал ни о чем, его сознание оставалось чистым листом бумаги. Постепенно ему становились известны подробности: как менеджер студии Ричарда решил, что сантехник придет в тот же день в девять вечера, а не в девять на следующее утро (даже в своем затуманенном состоянии он недоумевал, кому могло прийти в голову, что сантехник явится в девять вечера); как Ричард обнаружил его, вызвал скорую помощь и поехал с ним в больницу; как Ричард позвонил Энди, и Гарольду, и Виллему; как Виллем вылетел из Коломбо, чтобы быть с ним рядом. Он чувствовал неловкость из-за того, что Ричарду пришлось его найти – эта деталь замысла всегда его смущала, хотя он помнил ход своих мыслей: Ричард спокойно переносит вид крови, он когда-то создавал скульптуры из крови, так что в его случае травматическое переживание будет не таким сильным, как у любого другого из его друзей, – но он попросил прощения у Ричарда, а тот погладил его по руке и сказал, чтобы он не беспокоился, что все хорошо.
Доктор Соломон приходил каждый день и пытался с ним беседовать, но ему было нечего сказать доктору Соломону. Чаще всего посетители с ним не разговаривали. Они приходили, садились, занимались своими делами или рассказывали что-то, явно не ожидая ответа, за что он был им признателен. Люсьен приходил часто, обычно с подарком, один раз – с большой открыткой, которую подписали все сотрудники конторы: «Это, конечно, ровно то, что тебе сейчас нужно, – сухо сказал он, – но уж как есть». Малкольм сделал ему модель воображаемого дома с окнами из веленевой бумаги и поставил на прикроватную тумбочку. Виллем звонил каждое утро и каждый вечер. Гарольд читал ему «Хоббита» – он раньше эту книгу не читал, – а когда Гарольд не мог прийти, приходила Джулия и продолжала с того места, на котором Гарольд остановился; эти визиты ему нравились больше всего. Энди приходил каждый вечер, когда посетителей уже не пускали, и ужинал с ним; беспокоясь, что он мало ест, Энди приносил ему то, чем ужинал сам, – однажды принес контейнер говяжьего бульона с перловкой, но он был все еще слишком слаб, ничего не мог удержать в руках, и Энди пришлось терпеливо кормить его с ложки. Когда-то такое его бы смутило, но теперь ему попросту было все равно: он открывал рот, принимая безвкусную еду, жевал и глотал.
– Я хочу домой, – сказал он Энди как-то вечером, пока тот ел сэндвич с индейкой.
Энди прожевал кусок и посмотрел на него:
– Вот как?
– Да, – сказал он. Другие слова не шли на ум. – Хочу убраться отсюда.
Он думал, что Энди ответит что-нибудь саркастическое, но тот сосредоточенно кивнул.
– Хорошо, – сказал он, – хорошо. Я поговорю с Соломоном. – Он нахмурился. – Съешь свой сэндвич.
На следующий день доктор Соломон сказал:
– Мне передали, вы хотите домой?
– У меня такое чувство, что я здесь уже очень долго.
Доктор Соломон тихо ответил:
– Вы действительно здесь уже некоторое время. Но с учетом прошлой аутоагрессии и серьезности этой попытки ваш доктор – Энди – и ваши родители сочли, что так будет лучше.
Он задумался.
– То есть если бы моя попытка была менее серьезной, я бы мог отправиться домой раньше? – Такая политика казалась слишком логичной, чтобы быть эффективной.
Врач улыбнулся:
– Возможно. Но я не то чтобы категорически возражаю, Джуд, хотя нам придется принять какие-то защитные меры, если мы отпустим вас домой. Просто меня тревожит, что вы наотрез отказываетесь обсуждать свою попытку. Доктор Контрактор – простите, Энди – говорит, что вы всегда сопротивлялись психотерапии; можете объяснить почему?
Он ничего не сказал, врач тоже.
– Ваш отец сообщил мне, что в прошлом году вы вступили в травматические отношения, имевшие долгосрочные последствия, – нарушил молчание врач, и он похолодел, но заставил себя промолчать, и закрыл глаза, и в конце концов услышал, что доктор Соломон встает, чтобы уйти.
– Я приду завтра, Джуд, – сказал он на прощание.
В конце концов, когда стало понятно, что ни с кем из них он разговаривать не собирается, а навредить себе в этом состоянии не сможет, они его отпустили, поставив ряд условий. Его выписывали под ответственность Джулии и Гарольда. Ему настоятельно рекомендовали принимать (в меньших дозах) прописанные в больнице лекарства. Ему весьма настоятельно рекомендовали дважды в неделю встречаться с психотерапевтом. Раз в неделю он должен был ходить к Энди. Его обязали взять длительный отпуск и уже договорились об этом. Он на все согласился и поставил свою подпись, с трудом удерживая ручку, на выписных документах, сразу под подписями Энди, доктора Соломона и Гарольда.
Гарольд и Джулия отвезли его в Труро, где Виллем его уже ждал. Каждую ночь он спал сколько захочет, а днем они с Виллемом медленно спускались по холму к океану. Было начало октября, слишком холодно, чтобы лезть в воду, но они сидели на песке, смотрели на горизонт, и Виллем иногда говорил ему что-то, а иногда они просто молчали. Ему снилось, что море превратилось в плотный лед, волны застыли, и Виллем стоит на дальнем берегу и машет ему, а он медленно бредет к Виллему по широкому простору замерзшего моря, навстречу ветру, от которого немеют руки и лицо.
Они ужинали рано, потому что он очень рано ложился спать. На ужин всегда было что-нибудь простое, удобоваримое, и если готовили мясо, кто-то из них троих заранее нарезал его на кусочки, чтобы ему не пришлось управляться с ножом. Гарольд каждый вечер наливал ему стакан молока, как ребенку, и он выпивал молоко. Ему не разрешали выйти из-за стола, пока он не съест как минимум половину тарелки, и накладывать себе еду тоже не разрешали. Он слишком устал, чтобы возражать, и выполнял все требования как мог.
Он все время мерз и иногда просыпался посреди ночи, дрожа под несколькими одеялами, и лежал, глядя на Виллема, который спал на диване в той же комнате, и на облака, которые плыли мимо месяца, светившего в щель между жалюзи, пока не засыпал снова.