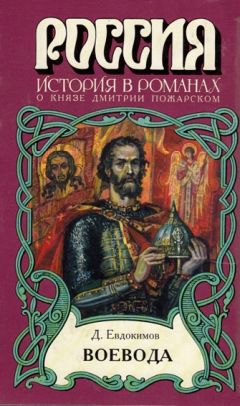Максим Кантор - МЕДЛЕННЫЕ ЧЕЛЮСТИ ДЕМОКРАТИИ
Это произойдет не в первый раз — потому оно и Возрождение, что умеет возрождаться. Однажды власть и культ не смогут обеспечить векселя, однажды рухнет система кредитов и долговых расписок. Однажды люди увидят, что квадрат — это всего-навсего квадрат, полоска — не более чем полоска, а власть, которая не может накормить голодных, — дурная власть. И тогда авангард, как всякая знаковая система, придет в негодность. И тогда жирному генералу — авангарду — предъявят счет.
Тогда придется платить по долгам. И Ренессанс, и революция требуют расплаты наличными.
ПАЛАТА № 7
1. Вечный кайф проклятых вопросов
Считать ли Россию Европой? Демократия — это гуманизм? Умирает ли искусство? Кончилась ли история? У интеллигенции накопилось много проклятых вопросов.
Проклятыми эти вопросы называют, имея в виду их вечную актуальность — однако когда слышишь их снова и снова, поневоле кажется, что вопрошающий безумен. Ну для чего же опять про то же самое? Повторяемые до бесконечности вопросы уже не нуждаются в ответе — определенность испортит удовольствие от беседы. Такой тип вопросов характеризуется общим свойством — умеренной глобальностью. Они только как будто о главном, а на самом деле — об удобном. В общем-то решительно все равно, как на эти вопросы отвечать. Допустим, Европа закатилась, искусство умерло, история кончилась тоже. И что теперь? Такого «теперь» вопросы не допускают — вся прелесть в их перманентном характере, в бесконечности конца и незакатности заката, в том особом поле сомнений, которое называется «интеллигентностью». Согласитесь, если бы решительно все подряд закатилось, издания журналов пресеклись бы также — а это невозможно себе и вообразить, ведь проклятым вопросам надобно где-то дебатироваться.
Не имея отношения к точным наукам, эти вопросы равно не имеют отношения и к метафизике. Историю и экономику, религию и философию они затрагивают по касательной, никаких определенных концепций не порождают — но для участия в спорах необходимо специальное состояние души, такое ажитированное умонастроение, которое сообщает словам нужный напор. Обсуждение проклятых вопросов требует некоторого навыка, Платон сказал бы «сноровки», этот навык и эта сноровка выделены сегодня в специальную дисциплину — «культурологию». Культурология, вообще говоря, есть не что иное, как современная идеология: в ведении культурологии находится то главное, из-за чего и начались перемены в нашем обществе: неказистое бытие России, не вполне соответствующее цивилизованным стандартам. Россия — она как нежинский огурец, неудобный для супермаркета, бросающий вызов другим огурцам, которые имеют соответствующую длину и общепринятый окрас. Предполагается, что сноровка культуролога поможет эту разницу сгладить. Из обсуждения проклятых вопросов должна в свое время проявиться наша судьба — еще немного поговорим, и станет совсем ясно, как жить. Рецептов полно: прогрессивное и актуальное искусство, империя по типу петровской, денежная эмиссия, символический обмен, античные виллы в Подмосковье.
Сегодня, когда интеллигентные беседы неожиданно стали чем-то вроде индульгенций для политики и делопроизводства, культурологов в нашем обществе стало столько же, сколько в советском обществе было комсомольских секретарей. Кого ни возьми — и тот культуролог, и этот.
2. Ответственный за всечеловечность
Важен не ответ, важно, кто задает вопрос и почему. В России это особенно важно. Поскольку означенный свод вопросов традиционен для российской интеллигенции, такой тип мышления суть ее родовой признак. Подобные вопросы интеллигенты задавали из чувства вины перед народом за свою относительно комфортную жизнь, из желания стать просветителями, из невозможности цивилизовать начальство — словом, из комплекса чувств, знакомых нам по романам Достоевского и рассказам Чехова.
В 30-е годы интеллигенцию определяли как «прослойку», трудновычислимую социальную страту, попутчицу пролетариата и крестьянства. Ведя родословную аж от декабристов и Пушкина (такой счет не слишком точен, однако разночинец, а за ним и советский интеллигент думал о декабристах как о прямых этических учителях и предшественниках), интеллигенция негодовала на бюрократическое определение «служащий». Интеллигент болел за свой народ и был готов на жертву, он чувствовал себя ответственным за права и свободы — какой же он служащий? Служение — но не служба, вот путь русского интеллигента. Служат — чиновники, ненавистная государственная каста, держиморды и опричники. Как определить интеллигенцию точнее, нежели через понятие «служащие», сказать затруднялись, но безусловно интеллигенция заслужила отдельной от инженеров судьбы. И действительно, инженер вскоре перестал существовать, а интеллигенция оформилась в совершенно определенный, вполне сформировавшийся класс. У этого класса в ведении оказалось самое существенное орудие производства — идеология. Свидетельством того, что интеллигенция оформилась как класс, стало появление классового самосознания, обозначение своей позиции по отношению к другим классам. В случае с начальством — сложные договорные отношения на выполнение социального заказа, в случае с народом — замена прежних прекраснодушных обещаний трезвым подсчетом выгод и потерь. Сострадание к народу как к еще более угнетенному и слабому, чем сама интеллигенция, сменилось подозрительностью и обдуманным презрением.
Надо сказать, что народ и прежде никто особенно не любил — просвещенные люди все время пеняли народу на то, что он какой-то диковатый получился, не столь умилительный, как у соседей, немецких романтиков или шотландских бардов. Ни тебе веселящего душу свода магических преданий, ни пристойной мифологии — но хаос, пьянство, темное варварство. Однако находились время от времени чудаки вроде Толстого или народников, звучали фразы «меня не испугают мужики с дубьем». Но пришло время — и именно мужики с дубьем напугали. И в жертву такому народу, такой бесовской толпе приносить себя отнюдь не хотелось. Образовать бы их — так ведь не хотят, черти! Петра им, Петра с дубиной — чтобы попрятали свое нелепое дубье и взялись за ум.
Интеллигент был готов принести жертву, но отныне жертвой стало то, что интеллигент вынужден разделять судьбу своего народа. Интеллигент не мог простить народу то, что народ его предал в годы пролетарской революции. Демократ не мог простить народу то, что народ был доволен режимом, при котором интеллигенту не воздавалось (или казалось, что не воздается) по заслугам. Либерал презирал народ за то, что народ был еще большим рабом, чем он, либерал. Интеллигенту казалось, что, коль скоро он сознает свое рабское состояние, он все же раб в меньшей мере, чем народ, который своего рабства не осознает. Так случилась вещь неожиданная для истории гуманистической мысли: интеллигенция поставила свою трагедию выше трагедии народа — вещь невозможная в XIX веке.
Среди прочих мифов, тешащих самосознание российского интеллигента, существует миф о «всечеловеке». Всечеловек — это, судя по описаниям, такое специально устроенное существо, которое не живет лишь проблемами собственного бытия, не руководствуется лишь личным опытом — но открыто всему миру. Оно, это существо, восприимчиво к любой внешней — и даже географически удаленной — реальности. Оно, это существо, легко впитывает в себя чужую культуру, оно отзывчиво к проблемам мира в целом. Ощутить себя таким существом для российского интеллигента спасительно: это некий бонус, данный судьбой во искупление неприятного климата, нелегкого материального положения и неопрятного соседства. С тяжелой руки Достоевского и легкой — Блока, которым было внятно решительно все, миф этот въелся в мозги рядового обладателя библиотеки. И это служит утешением среди бед: как ни далеки мы от центров цивилизации, как ни черна наша история, как ни дик наш народ, а все же, по выражению одного диссидентского поэта, «беспокойная жилка» российской интеллигентности бьется в нас, и через это биение мы приобщены к мировой, общей культурной традиции. Мы рождены в скучных и постылых местах, нас трудно причислить к европейским народам, однако есть в нас это незаурядное свойство — мы всечеловеки. Мы, русские интеллигенты, люди особой породы, нам историческое предопределение нипочем: силой духа, фантазией и страстью мы раздвигаем рубежи своей Родины, и живем — всем миром. Соображение это крайне утешительное.
С действительным, положением дел ничего общего оно не имеет.
Традиционно у русской интеллигенции нет ни интереса, ни сочувствия к проблемам — и, не дай бог, бедствиям — иноземцев. Умы и сердца наших мыслящих соотечественников не трогают голодающая Индия или Сомали, проблемы Восточного Тимора или Индонезии. На дискуссионных площадках российской интеллигенции — знаменитых в советские годы кухнях, местах укромных и располагающих к искренности — говорили о чем угодно: о российском ГУЛАГе, о западных привилегиях, о развитии промышленного сектора Америки и упадке соответствующего сектора в России, о цензуре, стесняющей балагуров, но никогда не говорили о том, что кому-то (ну скажем, рабочему в южном пригороде Лондона) живется труднее, чем русскому научному сотруднику. В редком салоне обсуждают нищету Африки. А уж соображение о том, что посудомойка в Брикстоне не вполне счастлива, — такое соображение нас посетить не может по определению. Как же может быть она несчастлива, если живет в свободной демократической стране? Если нас что и волнует по-настоящему, так это то, что в Европе живут лучше нас, а не то, что в Африке — хуже. Нас потрясает факт изобилия в Америке, а не бедствия Латинской Америки. Нам не дает покоя сытость Германии, а положение в турецких кварталах Берлина мало интересует. Суммируя этот набор эмоций, можно сказать, что русский интеллигент узнавал о внешнем мире выборочно: отбрасывал за ненадобностью малоприятные аспекты и концентрировался на остром чувстве зависти к западным привилегиям. И мысль о том, что западные привилегии распределяются даже среди жителей Запада неравномерно, никогда наши головы не посещала. Солидарность с угнетенными не в чести (это положение эксплуатировалось марксизмом-ленинизмом и прочими людоедскими теориями), нас манит солидарность с преуспевающей частью мира, и давайте не думать о том, угнетатели они или нет.