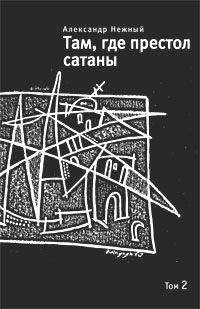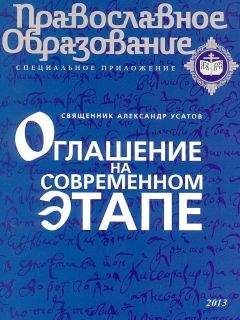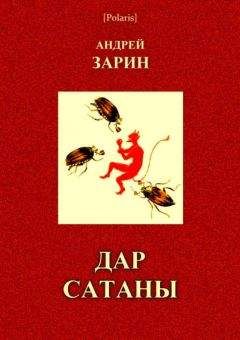Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 1
– Один ты, батюшка наш, за правду Христову стоять остался! – пронзительно прокричала пожилая тетка в черном платке, черной кофте и юбке тоже черной, и слитным гулом весь храм ее поддержал.
– Я груб?! А Григория Великого послушать, как он их крыл, весь собор освященный! Это, говорит, был не собор, а стадо галок. И хуже того: не собор, а буйная толпа! Поэтому, говорю вам, ничего не бойтесь. Бога бойтесь, и Его правду не оскверняйте. А раскол… – он махнул рукой. – Наш раскол есть дело честное. С дороги изгаженной, истоптанной, испохабленной мы уходим на свою твердую стезю. Тихон с революцией лукавит. Ему и капитальца надо у новой власти приобрести, да свою староцерковную невинность соблюсти… Невинность! – Архиерей покрутил головой. – Третий век, ежели не больше, как вавилонская блудница… Вином блуда своего опоили всю Россию, а теперь кричат, что их-де прижали! А мы говорим: если революция против церковных мерзостей – мы с ней. Если революция против продавших Христа бесчестных попов – мы с ней. Если революция взяла Христов бич, дабы очистить храм, – мы с ней.
И всякий раз вторил ему народ: «С ней… с ней… с ней».
Отец Александр молчал.
– Устал я, – вдруг пожаловался архиерей.
Все вокруг сочувственно вздохнули. Как не устать! Со всех сторон лезут тихоновские раки, все насквозь черные, с глазами, уповательно выпученными назад… Он снял клобук и вытер вспотевшую под ним голову, в каковую вечерами, в келье, забредают невеселые мысли. Днем ничего, днем служишь, крутишься, а вечерами, братья и сестры, тоска давит невыносимая. Умел бы пить – ей-Богу, наверняка запил бы горькую. Гляньте: обещан нам брачный пир Агнца. Церковь – Его Невеста. Но поразмыслим: с какой церковью заключит Он надмирный и вечный союз? С тихоновской? Вообразить страшно! На кой ляд беспорочному Агнцу эта, прости, Господи, старая, истасканная шлюха, блудившая с царями и вельможами, а в последнее время скатившаяся до хлыста Гришки Распутина? Может, с католической? А она разве годится Ему в Невесты, эта ворона, ищущая поживиться на всяком горе? У нас, в России, слышь, тоже закаркала… С протестантами? Да какой может быть с ними пир? Пир – это радость, веселье, умиление, а у них мухи от скуки дохнут. Явись, положим, какой-нибудь протестант в Кану Галилейскую – там все вино разом прокисло бы в трехдневные щи. С нашей, обновленческой? Да у нас, братья и сестры, ежели по чести, у самих всякой твари по паре. «Древлеапостольская церковь» – балаган из одного актера, Сашки Введенского.
– Выкрест! – послышалось из толпы.
– Выкрест, – безучастно согласился архиерей. – По нему видать, что из колена Иудина. Ну и что? По мне хоть еврей, хоть татарин – лишь бы Христа любил превыше всего. А он, митрополит Александр, – слово «митрополит» старик выговорил с брезгливой поспешностью, словно торопился сплюнуть набежавшую в рот горькую слюну, – он человек талантливый, он даже больше, чем талантливый, он к вдохновению способен, что всегда было редкостью, а уж в наши дни – тем более. Горит! – не то в похвалу, не то в осуждение выкреста Введенского промолвил епископ. – Но не самого Христа любит чистой любовью, а Христа, возле которого и он прославится. Ему от «осанны» невтерпеж хоть махонький кусочек, да себе, в свою славу отщипнуть. Что там у нас еще? «Живая церковь»? Сие, други, есть натуральный притон, а поп Красницкий в нем – главный заправила. Он там у них и за бандершу, и за бухгалтера, и за вышибалу. Нет, милые вы мои, – словно осилив невидимую крутизну, тяжко вздохнул старик, – та Церковь, о которой нам сказано, что Она – Невеста Христа, – Она впереди. Будем же молиться и верить, что зерно Ее здесь, нами брошено, нашими слезами напитано, нашим дыханием согрето. Ей, Господи, верую в это!
Он перекрестился и тяжело спустился с солеи. Чаша со Святыми Дарами была в левой его руке.
«Верую, Господи, и исповедаю…» – начал архиерей молитву перед причастием, и о. Александр едва слышно повторял – правда, не на обиходном наречии, а на подобающем торжеству из торжеств и тайне из тайн языке солунских братьев: «…яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз…»
В очередь из причастников о. Александр, скрестив на груди руки, нарочно встал последним. Перед Чашей хотелось ему получить у епископа благословение на особое с ним собеседование. Старик вечерами мается в келье, а тут как раз он, священник из провинции, со своими вопросами, недоумениями и, может быть, возражениями, из которых главное, что бы там ни говорили за столом у о. Сергия, заключалось в отношении к власти. Разоренный гроб преподобного не выходил у него из памяти – словно подвергшаяся поруганию и враз ставшая сирой отеческая могилка. И угрозы все храмы в граде Сотникове позакрывать, монастырь упразднить, а монахинь разогнать по артелям и поденным работам. Да что Сотников! При взгляде на страдающую Россию может сложиться впечатление, что град сей остается пока еще заповедником православия, тишайшим его уголком, местом, окруженным той самой канавкой преподобного, которую невмочь перешагнуть Антихристу со всею его ратью. Отовсюду доносятся вести о кровавых расправах над служителями алтаря. У нас же, по милости Божьей, кровь пока не пролилась. Ах, нет. Паша Блаженная, прозорливица и святой жизни юродивая, в день вскрытия мощей преподобного попала комиссарам под жестокую руку, была из храма выведена и, по сведениям самым достоверным, где-то в Шатровском лесу убита. Еще и о поэме своей намеревался упомянуть о. Александр, а при искреннем интересе владыки и прочесть кое-что из нее, и спросить совета: в какой журнал из ныне в Москве выходящих можно ее предложить, не рискуя подвергнуть злобному осмеянию священный сан и достоинство автора. Так он думал, медленно продвигаясь к Чаше и вместе со всеми тихо напевая: «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите».
Истинно говорю Тебе, Господи: да будет честное Тело Твое и святая Кровь Твоя в очищение и укрепление моего духа, здесь, в столице, колеблющегося, как пламя свечи; в утверждение веры моей, недостойного иерея; в попаление дурных моих помыслов и страстей – пусть сгорают, будто сухая полынь; в утешение скорбей моих; в предостережение меня от путей нечестивых и в помощь для творения добра… Человек, должно быть, шесть оставалось в очереди перед ним. Теперь он хорошо видел Чашу в левой руке архиерея, видел и правую его руку, в которой, однако, вместо позлащенной лжицы с величайшим изумлением заметил щипчики, наподобие медицинских. Отец Александр ахнул и перестал петь. Это что еще за невидаль, Господи помилуй? Щипчики. У него дыхание пресеклось. Он встал столбом и, не отрываясь, глядел, как епископ погружал щипчики в Чашу, захватывал ими напитанную Кровью Господа частичку Его Тела и опускал в сложенную ковшиком руку причастника, после чего тот с большей или меньшей сноровкой отправлял Святые Дары в свой широко разверстый рот.
– Зачем?! – вслед за глубоким вздохом вырвался, наконец, вопрос у о. Александра, на что стоявший перед ним мужчина с лысиной величиной с чайное блюдце, не оборачиваясь, уверенно ответил:
– Чтобы заразы не было от общей ложки. Гигиена.
Тут подошел его черед, он придвинулся, щипчики разжались, и в протянутую, как за подаянием, руку, упала напоенная Кровью частичка Тела. Забросив ее в рот, он попятился, развернулся и медленно удалился.
– А ты чего стоишь? – приглашая о. Александра к Чаше, призывно взмахнул щипчиками старик-архиерей. – Не привык, что ли, к нашим обычаям? Иди. Обвыкай.
Но словно надломилось что-то в о. Александре. С чем он родился, вырос, в чем воспитался как священник, с чем накрепко сросся за многие годы служения в алтаре, что любил верной любовью за красоту, порядок и чин, наверняка угодные Богу, – все мало-помалу он уступил: и язык, и правила, и даже Патриарха. И раскол в Церкви с тяжким чувством, но принял, сожалея горюющим сердцем о прежнем мире и в то же время понимая, что мир, согласие и единство были лишь поверху Церкви, и в расколовшемся Отечестве не уцелеть было и ей. И прилепился к новому, к о. Сергию, к единомышленникам его, чуя в их решимости великую правду давно назревших перемен. Но щипчики, которыми со сноровкой какого-нибудь китайца, двумя палочками ловко прихватывающего вечный свой рис, орудовал в Чаше старик в черном, по самые брови надвинутом клобуке, повергли его в величайшее смятение, дабы не сказать – ужас. Страшные мысли нахлынули. Да точно ли верит архиерей-ниспровергатель в преосуществление Даров? Вправду ли верит, что по его молитве силою Святого Духа вершится величайшая тайна превращения хлеба – в Тело, а вина – в Кровь Спасителя? И что всякая болезнь бежит от все исцеляющей святости? И неужто не понимает, что Чаша принадлежит безумию, восторгу и надежде, а щипчики – мелкому уму, расчетливости и пошлости? Гигиена – земле, угль же причастия – Небу.