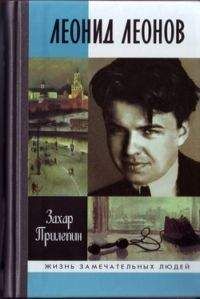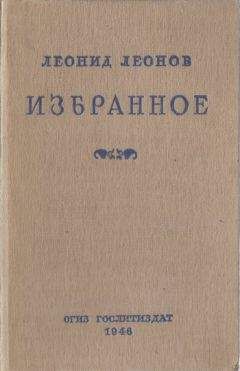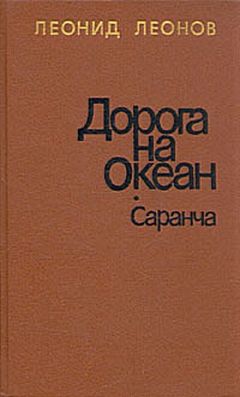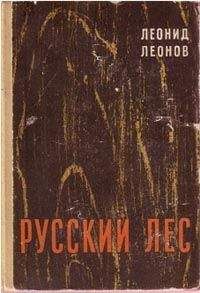Леонид Леонов - Пирамида. Т.1
Из конспиративной деликатности племянник обходился без нескромных вопросов: восторженное воображение само читало в недомолвках и фигурах умолчания суровую и скрытную биографию русского подпольщика. Сложенная из отовсюду натасканных эпизодов, ока выглядела не хуже нынешних киносценариев на ту же тему, где так старательно затемнена человеческая изнанка. Примечательно, Гаврилов-отец, видимо, из боязни за пылкого мальчишку, чтоб не замарался о революцию, всегда мешал дяде с племянником оставаться наедине, под любым предлогом отсылая последнего из дому вон, на каток либо в лавочку, но с некоторых пор и сам он — Гаврилов-сын, стал по возможности избегать соприкосновения со своим покровителем, несмотря на все его щедроты, подсознательно усматривая в них какой-то, с дальним прицелом, неоплатный подкуп... Словом, начальные подозрения возникли у гимназиста задолго до раскрытия грустного семейного секрета. Оно произошло в два приема, и вступленьем к нему послужил туманный намек из подслушанной ссоры родителей, где мать в запальчивости попрекнула мужа: «... уж мой-то брат, хоть и забулдыга, да по крайней мере собственную свою жизнь загубляет, а то ведь чужие... Щенков безусых поставляет на убой». Расшифрованная в привычном ключе фраза не значила ничего. «Предводитель атакующего отряда, революционного тем более, естественно, наравне с собою, подвергает риску и подчиненных ему людей... а как же иначе, без павших в бою!» Вторая половинка тайны объявилась с двухмесячным промежутком, вскоре после выпускных экзаменов в один чудесный перволетний денек и, между прочим, сразу после получения аттестата зрелости. У Гаврилова-отца в ту пору, в предчувствии надвигающейся катастрофы режима, уже объявился сведший его вскоре в могилу недуг — закопаться от мнимых пока преследователей в безвестную тинку жизни. Жили в собственном домике на окраине подмосковного городка, и в ста шагах от крыльца простиралась до самой речки невдалеке такая духовитая, из молодой листвы, сквозная вся березовая роща. Перед уборкой в сундук от моли на солнышке снаружи проветривалась зимняя одежда, для лучшего присмотра сени стояли настежь открытые. Вернувшись с поезда, юноша собирался в стишках и нараспев возгласить родителям шутливую декларацию о высвобожденье наконец-то из-под их тиранической опеки, успел и шинель снять, но пока ноги вытирал, то да се, услышал их полупригашенный разговор, ту как раз его часть, что по несомненным признакам, без обозначенья фамилии, касалась старшего Гавриилова и его работы. Мать была совсем простая женщина, но с какой царственной гадливостью поинтересовалась она у мужа, обязаны ли они, подразумевалось — агенты охранки, присутствовать при казни поставляемых ими лиц и что делают при этом, другими словами — помогают ли? После виляющей какой-то собачьей паузы тот отвечал уклончиво, что не всех же непременно казнят. И сразу, в сокрушительный миг единый прояснились всякие темные непонятности или, напротив, романтические пробелы в поведении дядечки, прежде всего — его скользкие афоризмы вроде — «подвиг и преступленье равноправные рычаги истории» или «правда с кривдой что сестры евангельские, и пока одна вздыхает да глаза закатывает, труженица в чаду на кухне хлопочет». Получала единственно правильное толкование и престранная, при отличном зрении, якобы — племянника посмешить, привычка водружать на нос старомодное пенсне, равно как и загадка со вставной буквой «и» — все равно что в воровском рту зуб золотой для снискания почтенности да и самая походка его, как осторожно, словно босой, словно наколоться о невидимое боялся, ставил он ступню, прежде чем перенести на нее тяжесть тела. Но еще раньше — первейшая против него улика — страшный его поцелуй в классическом стиле первого на земле христопродавца, который ввел братское лобзанье в ритуал предательства и по праву считается шефом — покровителем профессии.
Остаток торжественного дня юноша провел в непролазной чаще лесной, хотя поначалу-то предполагал завершить там остаток жизни. Было еще далеко до грибов и земляники, да и для черемухи рановато, так что некому было наблюдать, как обезумевший гимназист в слезах и навскрик бился, гнусно сквернословил и катался по молодой, необсохшей травке, вскакивал пружинно, чтобы снова броситься оземь с разбегу, попеременно спиной и брюхом терся о проплешинки глины на лужайке, о набухшие по весне кротовьи норки, словно пламя на себе гасил либо проклятье Господнее стереть с себя пытался. Притом как бы раздвоился на срок, и если один извивался в пьяном исступленье, словно порубленный лопатою червяк, другой, напротив, нога за ногу и к стволу прислонясь, за собою же наблюдал с усмешкой, удерживал от излишеств отчаянья, в частности от повреждения диплома, потому что без документа об окончании средней школы, как и без метрического свидетельства, чиновнику просто хана в новом, освобожденном мире, где с особым рвением фильтровать почнут — не из дворян ли. И если первый стенал, проклиная в себе плебейскую жажду жизни, мешавшую совершить роскошный акт, единственно достойный выход из положения, тем более что, по такому масштабу огорчения, и ножик наточенный носил на прочном поясном ремне, на который тоже вполне можно было положиться, да и сучков надежных вокруг было предостаточно, — тот, другой, иронически посматривал на свои же искусные корчи как на способ имитации безысходного горя сохранить самоуважение к собственной своей особе, совсем не лишнее в случае большой карьеры; правда, действовала там и еще одна потаенная пружинка... Что касается парадного мундирчика, приведенного в окончательную негодность, то и указанное обстоятельство было у Гаврилова учтено: уж теперь-то мамаша не заставит его донашивать старье до дыр, так что и перед девицами зазорно показаться.
«Ладно, кончай представленье, сматывай свою рогожку, великий артист, а то без ужина останешься...» — подмигнул один Гаврилов другому, подняться помог и напомнил не забыть скатанную в рулончик, тоже с портретом государя императора, казенную бумагу, пролежавшую в безопасности на пеньке поодаль.
Домой вернулся без опоздания, к месту надоумившись притвориться, будто в подпитии; хотя мать и поворчала на сына, что изгваздался, как свинья, однако приятельская пирушка по столь уважительному поводу, как совершеннолетие, не требовала дополнительного объяснения. Таким образом, кроме небольшого насморка не оставалось к утру и следов от истерики накануне, — подводя баланс, можно было лишь порадоваться сумме приобретения, доставшегося по дешевке. По существу шалость накануне была первой такой серьезной и удачной пробой своих нравственных сил на житейском поприще. Пускай немножко болела голова, зато не ощущалось потребности ни срочно разносить в клочья устои мира сего, ни тем более расставаться с вещественными знаками своей многолетней близости с подлейшим из представителей. В сущности, рассчитанный на единственного зрителя весь тот лесной спектакль имел целью сохранить за собою моральное право на коллекцию монет, выкупить ее у самого себя, уравнять ее на весах мальчишеской совести — «чем бы ни был испачкан орех, да в нем ядрышко пользы!..» Правда, первые недели две имелось у юноши гордое намеренье при очередном дядином визите швырнуть ему в лицо целиком гадкое его сокровище, для чего пришлось бы предварительно ссыпать воедино содержимое картонных ячеек, и под конец победили соображенья здравого смысла: с одной стороны, раскатившееся по щелям вряд ли соберешь потом, с другой же — спуталась бы их хронологическая подборка по датам, следовательно, и по ценности. По счастью, дядя запропал куда-то без единой весточки на целый год, а после революции и вовсе сгинул вместе с прочими обломками падшего режима.